Поэзия садов - [4]
«Случайности» в произведении барокко иные, чем в произведении романтизма, как и сама невыдержанность стиля в какой-то особой плоскости оказывается его выдержанностью. В этой связи стоило бы сказать и о том, что бездарный творец произведения барокко бездарен иначе, чем бездарный реалист. Это не всегда видно современникам автора, но зато хорошо улавливается по мере отступления стиля в прошлое. Вот почему антикварная ценность произведения искусства часто значительно выше, чем его ценность как чисто эстетического объекта. Это же побуждает нас хранить малейшую особенность старого сада, которая при отсутствии исторической точки зрения на нее могла бы показаться пустой и ненужной.
Можно сказать, что в садовом искусстве есть значения всех характеров: есть надписи, иногда поэтические, есть скульптура, изображающая определенные мифологические и исторические персонажи, архитектурные сооружения, посвященные тому или иному понятию, явлению, лицу (например, обелиски или храмы, посвященные тому или иному богу, памяти умершего или какой-либо добродетели), есть фонтаны со значением или без значения в первом типе, но с непременным смыслом во втором, стилистическом типе, есть гроты и эрмитажи, различные по смыслу, есть даже пруды-памятники, есть исторические и поэтические воспоминания, связанные с садом, но не задуманные самим садоводом, а явившиеся результатом событийного обогащения сада, т. е. появления в саду мест, связанных с какими-то происшедшими в нем событиями, есть отмеченные названием или каким-либо памятным знаком места (рощи, поляны) и т. д. и т. п. Можно сказать, что по характеру своей семантики «муза садоводства» (одна из трех новых, придуманных в XVIII в. в Англии Горацием Волполом) наиболее многоречива и многоязычна.
В своей поэме «Сады» Жак Делиль прямо заявляет, что сады «говорят», «вещают», «ведут разговор», «дают уроки»:
Представление о саде и парке как о книге вновь проявилось уже в наше время в поэзии Б. Л. Пастернака. В стихотворении «Липовая аллея» (из цикла «Когда разгуляется», 1956–1959 гг.) есть такие строки о парке в период цветения лип:
Вот почему в дальнейшем будут особенно интересовать нас связи садово-паркового искусства с искусствами словесными, и в частности с поэзией, тем более что многие мировые поэты были одновременно и садоводами, а другие испытывали особенное влечение к памятникам садово-паркового искусства, «читали» сады, видели в них книгу, все виды поэтических жанров, от оды до элегии и идиллии.
Список поэтов Нового времени, оказавших решительное влияние на садово-парковое искусство, может быть открыт Петраркой, который не только дал в своих произведениях программу садоводства, но был и садовником-практиком. Садоводом-практиком был Джозеф Аддисон, создавший сад в Билтоне и печатавший свои эссе в «Зрителе», оказавшие влияние на изменение вкусов в области садоводства[13]. Садоводом-практиком был и А. Поп, чей знаменитый сад в Твикенхеме открыл новую эру в садовом искусстве. Закончен этот список в основном может быть великим Гёте, устроившим Герцогский сад в Веймаре. Однако поэтов и писателей, с особенным вниманием относившихся к садам и оказавших влияние на садово-парковое искусство, вообще чрезвычайно много. Напомним, что и Н. В. Гоголь устраивал свой сад в Васильевке (ныне переименованной в Гоголево), зарисовывал садовые постройки в записной книжке и описывал сады в своих произведениях[14].
Садовая скульптура, тематика фонтанов, посвящения храмов и памятников, деревья, посаженные в честь того или иного лица или события, аллеи и пруды, посвященные тем или иным героям, – все это «говорило», представляло какие-то необходимые или излюбленные сюжеты. В Средние века, а частично позднее, сады бывали наполнены различными символами. Символами являлись в садах цветы и кусты, деревья и даже населявшие сад птицы и домашние животные.
Вот почему ничто не могло быть произвольно передвинуто со своего места и ничто из скульптур не могло служить простым, «внесюжетным» украшением. Ж. Делиль в своей поэме «Сады» требует точного соответствия скульптуры месту, где она помещена:
(С. 138)
Узкоархитектурный подход современных специалистов по садам и паркам изгнал из них в значительной мере историю изменений эстетических представлений – историю стилей, во всяком случае. К тому же сады утратили свое органическое родство с поэзией, с которой они всегда были тесно связаны.
Для работ на русском языке, написанных с такой чисто «архитектурной» точки зрения, характерно объединение всех регулярных садов Западной Европы в одну манеру, без попыток различить в ней местные стили и изменения. При этом образцовыми садами «регулярной манеры» обычно считаются французские. Равным образом все нерегулярные сады объединяются в понятие «пейзажных», без попыток увидеть в них какие бы то ни было различия, даже национальные (иногда, впрочем, выделяются русские пейзажные сады как отражающие русскую природу).
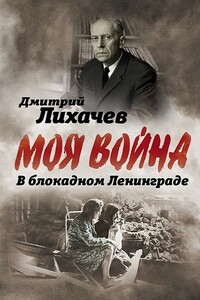
Дмитрий Сергеевич Лихачев — всемирно известный ученый: филолог, культуролог, искусствовед, автор около 500 научных и 600 публицистических трудов; Председатель правления Российского (Советского до 1991 года) фонда культуры. В годы Великой Отечественной войны он находился в осажденном гитлеровцами Ленинграде, где видел все ужасы блокады. В своих воспоминаниях он пишет об этом; подробности жизни «блокадников», усилия по обороне города показаны на фоне общих раздумий о морально-нравственном состоянии людей в этих тяжелейших условиях, о войне, о политическом и общественном строе СССР и Германии, о причинах мирового конфликта.
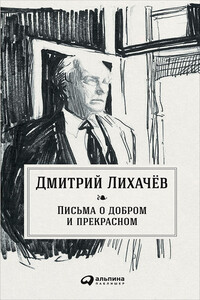
Книга выдающегося ученого XX века, академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва адресована молодым читателям. Это лишенные морализма и пафоса, оформленные в виде коротких писем размышления доброго и мудрого человека о необходимости саморазвития, формировании правильной системы ценностей, избавлении от жадности, зависти, обидчивости, ненависти и о воспитании в себе любви к людям, понимания, сочувствия, смелости и умения отстаивать свою точку зрения. «Письма…» академика Лихачёва будут полезны всем, кто хочет научиться делать верный выбор в самых сложных ситуациях, ладить с людьми, быть в согласии с собой и окружающим миром и получать от жизни большое удовольствие.
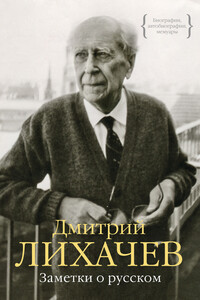
Дмитрий Сергеевич Лихачев – выдающийся ученый ХХ века. Его творческое наследие чрезвычайно обширно и разнообразно, его исследования, публицистические статьи и заметки касались различных аспектов истории культуры – от древнерусской литературы, в изучение которой он внес огромный вклад, до садово-парковых стилей XVIII–XIX веков. В этой книге собраны статьи и заметки Д. С. Лихачева разных лет. Извлеченные автором из записных книжек и далеко выходящие за пределы «чистой науки», эти материалы объединены сквозной темой – исторического прошлого и будущего России.
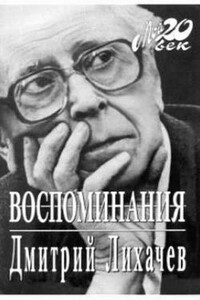
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
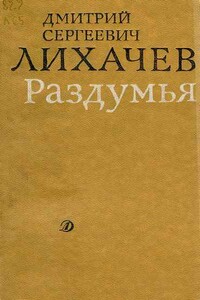
Когда Дмитрий Сергеевич покинул жизнь земную, кто-то написал в одной из газет: «Умерла Совесть России». Книга, точнее небольшая книжка, которую Вы открываете, не только взывает к совести, но очень простыми и доходчивыми словами объясняет нам ещё живущим на земле, на Руси, что может дать человеку культура, что скрывается за понятиями патриотизм и национализм. Д. С. Лихачев, познавший в своей жизни все, тем не менее отмечает, что «жизнь человека — это не отдельные события, связывающиеся в незакономерную последовательность, а своего рода организм, биографическое целое».
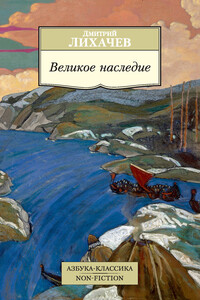
Дмитрий Сергеевич Лихачев – выдающийся ученый ХХ века. Его творческое наследие чрезвычайно обширно и разнообразно, его исследования, публицистические статьи и заметки касались различных аспектов истории культуры – от искусства Древней Руси до садово-парковых стилей XVIII–XIX веков. Но в первую очередь имя Д. С. Лихачева связано с поэтикой древнерусской литературы, в изучение которой он внес огромный вклад. Книга «Великое наследие», одна из самых известных работ ученого, посвящена настоящим шедеврам отечественной литературы допетровского времени – произведениям, которые знают во всем мире.
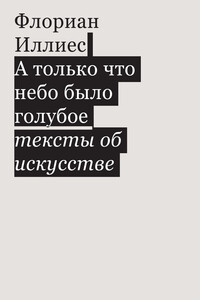
Флориан Иллиес (род. 1971), немецкий искусствовед, рассказывает об искусстве как никто другой увлекательно и вдохновляюще. В книгу «А только что небо было голубое» вошли его главные тексты об искусстве и литературе, написанные за период с 1997 по 2017 год. В них Иллиес описывает своих личных героев: от Макса Фридлендера до Готфрида Бенна, от Графа Гарри Кесслера до Энди Уорхола. Он исследует, почему лучшие художники XIX века предпочитали смотреть на небо и рисовать облака, и что заставляло их ехать в маленькую итальянскую деревушку Олевано; задается вопросом, излечима ли романтика, и адресует пылкое любовное письмо Каспару Давиду Фридриху.

Эта книга о цвете в цифровой фотографии. Она написана фотографом-колористом, который в своей практике опирается на художественные знания о цвете и использует возможности современных средств компьютерной обработки. Автор рассматривает все аспекты работы с цветом комплексно – от особенностей цветовосприятия человека, взаимосвязи цвета и композиции, критериев оценки колористической выразительности до процессов съемки, Raw-конвертации и цветокоррекции в Adobe Photoshop. Технические аспекты работы с цифровой фотографией рассматриваются с точки зрения художественного восприятия, чтобы читатель мог понять, как поставить инструменты на службу творческой идее. Книга адресована широкому кругу фотографов, а также может оказаться полезной цветокорректорам, дизайнерам и другим специалистам, работающим с цифровой фотографией.
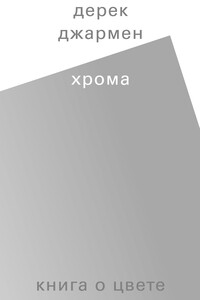
«Хрома» – размышления о цветовом многообразии знаменитого британского режиссера и художника Дерека Джармена (1942–1994). В этой книге, написанной в 1993 году, за год до смерти, теряющий зрение Джармен использует все ресурсы письма в попытке передать сложный и неуловимый аспект предмета, в отношении которого у него накопился опыт целой жизни. В своем характерном стиле – лирическом соединении классической теории, анекдотичности и поэзии – Джармен проводит читателя сквозь цветовой спектр, представляя каждый цвет олицетворением эмоций, пробуждая воспоминания и сны.
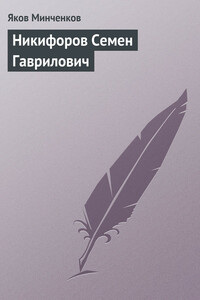
«…К чему бы он ни стремился, чего бы ни искал – судьба допускала его до конца стремлений, а в самом конце подсекала достигнутые успехи и разрушала все его достижения. Она невзлюбила Никифорова с самого его рождения и приуготовила ему несчастье уже в младенчестве. Это она подтолкнула руку его няньки, чтоб та выронила младенца, и свихнула его позвоночник, сделав Семена Гавриловича на всю жизнь физически недоразвитым и горбатым. Судьба дала ему ум и талант – и на каждом шагу мешала проявить свои способности.
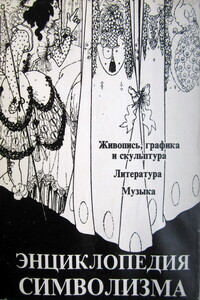
Впервые переведенная на русский язык «Энциклопедия символизма» — своеобразный путеводитель по сложной и противоречивой эпохе, получившей название «эпоха символизма». Живопись и литература, скульптура и музыка конца XIX — начала XX века представлены знаменитыми и малоизвестными именами тех, чьи жизнь и творчество связаны с культурой переходной эпохи, самые крупные достижения которой — неотъемлемая часть искусства XX века.В книге более 300 иллюстраций.Перевод с французского Н. В. Кисловой, Н. Т. ПахсарьянНаучный редактор и автор послесловия В.

Сандро Боттичелли — один из крупнейших мастеров итальянского Возрождения, чьи творения поражают сочетанием непревзойденного изящества формы с философской глубиной содержания. За волшебной легкостью «Весны» и «Рождения Венеры» скрыта нелегкая жизнь художника, полная творческих исканий, надежд и разочарований. Автор новой биографии Боттичелли Ст.В. Зарницкий на основе немногих сохранившихся источников рисует картину жизни своего героя на фоне бурных событий истории Италии второй половины XV века. Эта книга будет полезна не только знатокам итальянского искусства, но и всем тем, кого не оставляют равнодушными полотна великого флорентийца.