Поэтика ранневизантийской литературы - [22]
Здесь мы переходим к тому процессу ориентализации Средиземноморья, внутри которого развивались и психология цезаризма, и психология христианства. Ибо установление империи означало торжество такой системы отношений между властью и человеком, которая оказалась непривычной для греко-римского мира, но была давно отработана в ближневосточных деспотиях. Недаром во времена Цезаря и Октавиана в Риме носились темные слухи о предстоящем переносе имперской столицы на восток (что через три столетия с лишним пришлось осуществить на деле). Античный мир стремился оттеснить теократические тенденции на периферию общественной жизни и обезвредить их. Городгосударство в целом и его государственные формы считались богохранимыми (в Афинах был даже культ Афины Демократии), но существование особой категории людей, имеющих право действовать непосредственно от имени богов, отрицалось. Поэтому идея теократии выступала как враждебная городу-государству сила: ее подхватывали вожди рабских восстаний, как Евн, а на другом полюсе общественной жизни — претенденты на личную власть, как Цезарь. Но «богоизбранность» византийских «христолюбивых государей» имела для себя точный прообраз хотя бы в «богоизбранности» персидского царя Кира II, как его рисует ветхозаветная «Книга Исайи»: «Так говорит Господь помазаннику своему Киру: "Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы…"» 7. Драма священного ми-родержавства, интерпретированная по-язычески Августом и по-христиански — Константином, разыгрывалась на Ближнем Востоке на протяжении всей его истории, из тысячелетия в тысячелетие, и за это время не только властители, но и подвластные имели случай разучить свои роли с такой основательностью, которой недоставало попавшим в условия империи потомкам республиканских народов Средиземноморья. В полисные времена греки привыкли говорить о подданных персидской державы как о битых холопах; мудрость Востока— это мудрость битых, но бывают времена, когда, по пословице, за битого двух небитых дают. На пространствах старых ближневосточных деспотий был накоплен такой опыт нравственного поведения в условиях укоренившейся политической несвободы, который и не снился греко-римскому миру.
Чтобы схватить специфику ближневосточного опыта, полезно для контраста вспомнить античный идеал духовной свободы перед лицом гонителей— идеал Сократа. Идеал этот получил бессмертное литературное воплощение в платоновской «Апологии». «Не шумите, афиняне…» — каждый, кто читал это хоть один раз, запомнил прочитанное на всю жизнь. «Разоблачать» или «снижать» образ Сократа, развенчивать присущие ему черты редкого духовного благородства, лишать его места среди нравственных ориентиров человечества — дело не только несправедливое, но и тщетное: Сократ останется тем, что он есть. Совсем иное дело — прослеживать предпосылки такого свойства античной культуры, как ее «пластичность». Афинский мудрец твердо знает, что его могут умертвить, но не могут унизить грубым физическим насилием, что его размеренная речь на суде будет длиться столько времени, сколько ему гарантируют права обвиняемого, и никто не заставит его замолчать, ударив по лицу или по красноречивым устам (как это случается в новозаветном повествовании с Иисусом и с апостолом Павлом). Когда Сократ невозмутимо берет в руки свою чашу с цикутой — это высокий жест (слово «жест» употреблено здесь отнюдь не в смысле театрального, показного и постольку «ненастоящего» действия, но скорее как соответствие немецкому слову «Haltung»; то же относится ниже к словам «поза» и «осанка»); но излучаемая таким жестом иллюзия бесконечной свободы духа обусловлена социальными гарантиями, которые предоставляет полноправному гражданину свободная городская республика. Сохранять невозмутимую осанку, соразмерять модуляции своего голоса и выявляющие себя в этих модуляциях движения своей души можно перед лицом смерти, но не под пыткой 9. Еще Сенеке на заре имперской эпохи разрешили собственноручно вскрыть себе жилы и в последний раз продемонстрировать зрелище «атараксии»— высокопоставленный стоик продолжал быть актером, с согласия убийц доводящим до конца свою роль; но иудеи, которых в массовом порядке прибивали к крестам солдаты Веспасиана, или те малоазийские христианки, которых по неприятному долгу службы подвергал пытке эстет и литератор Плиний Младший |0, находились в совершенно иной жизненной ситуации. Что касается ближневосточного мира, то в его деспотиях к достоинству человеческого тела искони относились иначе, чем это допускало гражданское сознание греков. Даже приближенный персидского государя должен был простираться перед ним (тот самый обычай «проски-незы», который так шокировал Каллисфена11 и показался кинику Диогену недопустимым даже по отношению к бо-
гам 12 и который был воспринят и переосмыслен в византийской аскетической практике земных поклонов на молитве 13); в случае опалы этот приближенный мог быть посажен на кол. Пророк Исайя, если верить иудейскому преданию, был заживо перепилен деревянной пилой. Такая казнь, как распятие, применялась в греко-римском мире к рабам и прочим неполноправным людям 14, но на Ближнем Востоке хасмонейский монарх Александр Яннай мог сотнями отдавать на распятие почитаемых наставников своего народа из числа фарисеев 15. Восточный книжник, мудрец или пророк, восточный вельможа, даже восточный царь (вспомним выколотые глаза Седекии, чья судьба была прототипом стольких судеб в византийские века!) — все они хорошо знали, что их тела не гарантированы от таких надругательств, которые попросту не оставляют места для сократовской невозмутимости. Постепенно подобные нравы становились характерными и для Средиземноморья. Разгул пыток во времена Тиберия и Нерона, выразительно описанный Светонием и Тацитом, — только прелюдия. Поздняя античность уже знала укоренившуюся практику увечащих наказаний, особенно в армии 16; новеллы Юстиниана несколько ограничивают эту практику, но тем самым окончательно узаконивают ее 17. Затем процесс идет дальше: путь от Юстинианова законодательства к Эклоге Льва III(726 г.) ознаменован и смягчением— по линии замены смертной казни другими наказаниями, и ужесточением — по линии возросшего применения разнообразных телесных увечий и пыток |8. Перенят древний восточный обычай ринокопии (усечения носа), хорошо известный читателям Геродота 19; в лице Юстиниана IIувечный безносый (ргубтцтуто^) восседал на ромейском престоле.
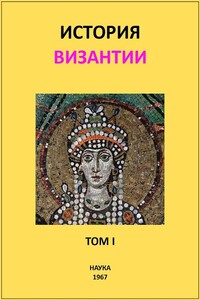
Первый том труда "История Византии" охватывает события с середины IV до середины VII века. В нем рассказано о становлении и укреплении Византийской империи, о царствовании Юстиниана и его значение для дальнейшего развития государства, о кризисе VII в. и важных изменениях в социальной и этнической структуре, об особенностях ранневизантийской культуры и международных связях Византии с Западом и Востоком.
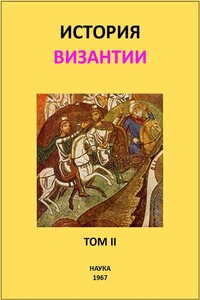
Второй том охватывает события византийской истории с конца VII до середины IX в. От этого периода византийской истории осталось мало источников. Почти полностью отсутствуют акты и подлинные документы. Сравнительно невелико количество сохранившихся монет. Почти совершенно нет архитектурных памятников того времени. Археологический материал, отражающий этот период, тоже крайне беден.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея УкраиныВ настоящий том собрания сочинений С. С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.На обложке помещен образ Иисуса Христа из мозаик киевского собора Святой Софии.

Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений.

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.

Статья напечатана 18 июня 1998 года в газете «Днепровская правда» на украинском языке. В ней размышлениями о поэзии Любови Овсянниковой делится Виктор Федорович Корж, поэт. Он много лет был старшим редактором художественной литературы издательства «Промінь», где за 25 лет работы отредактировал более 200 книг. Затем заведовал кафедрой украинской литературы в нашем родном университете. В последнее время был доцентом Днепропетровского национального университета на кафедре литературы.Награжден почётной грамотой Президиума Верховного Совета УРСР и орденом Трудового Красного Знамени, почетным знаком отличия «За достижения в развитии культуры и искусств»… Лауреат премий им.

Ранний период петербургской жизни Некрасова — с момента его приезда в июле 1838 года — принадлежит к числу наименее документированных в его биографии. Мы знаем об этом периоде его жизни главным образом по поздним мемуарам, всегда не вполне точным и противоречивым, всегда смещающим хронологию и рисующим своего героя извне — как эпизодическое лицо в случайных встречах. Автобиографические произведения в этом отношении, вероятно, еще менее надежны: мы никогда не знаем, где в них кончается воспоминание и начинается художественный вымысел.По всем этим обстоятельствам биографические свидетельства о раннем Некрасове, идущие из его непосредственного окружения, представляют собою явление не совсем обычное и весьма любопытное для биографа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предисловие известного историка драмы Юрия Фридштейна к «Коллекции» — сборнику лучших пьес английского драматурга Гарольда Пинтера, лауреата Нобелевской премии 2005 года.