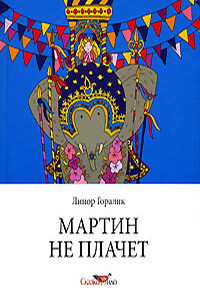но над небом звёздочка восходила.
Но проклятая звёздочка восходила.
* * *
Он нисходит, а тот как раз выходить, и они встречаются у реки, –
многоногой, влачащей по мутным волнам барсетки, сумочки и тюки,
изливающейся из первого к Рождественке, к Воскресенке,
из последнего — в мёртвые чёрные тупики.
Им обоим пора бы уже начать — а они молчат
и глядят друг другу через плечо.
А вокруг всё течёт себе и течёт, никто их не замечает, –
только дежурный у эскалатора что-то чует,
нервничает, когтями оглаживает рычаг.
Это пятница, восемь вечера, жар подземный, измученные тела,
а они читают в глазах друг друга о своих заплечных, говорящих: "Я за тобой пришла", –
и бледнеют, склоняют увенчанные чела, –
и не оборачиваются.
Потолок не сворачивается.
Лампы не чернеют, не источают чад.
И тогда дежурный у эскалатора переступает копытами, медленно вдавливает рычаг.
Эскалаторы замедляют ход.
Предстоящие выходу падают на чело.
Над Москвой остаётся ночь, всё черным-черно.
Эти двое невидящими глазами глядят вперёд, –
и Христос безмолвствует,
и Орфей поёт:
"Нет, у смерти нет для меня ничего.
Нет, у смерти нет для меня ничего."
* * *
Видеть, как сгорбленный у фонтана монетку из-под воды,
или уставшая говорит собаке "Поди, поди",
или стоять у «Макдоналдса», плакать о ерунде,
а чумазый встал и глядит, ничего не просит.
Так готовишь себя в свидетели на Его суде,
а потом не спросят.
Вот и сердце вроде во двор пропустить пивка,
а глядишь — замирает, падает, начинает биться,
увидав, как нелюбящая нелюбимой куклу издалека –
а идти — нейдёт, и смеётся.
* * *
А снег всё идёт, падает,
идёт, падает.
И мы в нём идём и падаем,
идём и падаем.
А шар всё встряхивают и встряхивают,
встряхивают и встряхивают.