По справедливости: эссе о партийности бытия - [5]
Такое представление о философии начинается, по крайней мере, с Мартина Хайдеггера. Речь идет о хайдеггеровской идее различающего различия, гипертрофия которой сделала возможным поле постструктуралистских исследований: от неолейбницианской философии складки Жиля Делеза до социоанализа габитусов Пьера Бурдье, от концепции микромира власти Мишеля Фуко до «классического» деконструктивизма Жака Деррида.
Субъекты складчатого мира напоминают орду големов (слепленных, правда, не из глины, а из праха), коммуникации в нем наполнены дружелюбием и вниманием друг к другу, характерным для обитателей склепа. Начинания и начала в этом мире – мертворожденные, при этом его обитатели постоянно спотыкаются о пороги разнообразных «финалов». Зато в складчатом мире по-санаторному уютно кадаврам, с удовольствием демонстрирующим свой гнилозубый жизненный оптимизм. В этом мире все натужно, натянуто, все подвергнуто эрозии амбивалентности. Мир складок лишен поляризации мужского и женского, земного и божественного, фундаментального и поверхностного. Истину миру складок заменяет выгода, вечность – выжидание и отсрочка. В нем находится место для всего, для какой угодно твари, но лишь при одном условии: она должна быть порождена в результате незаконного соития. Яркая неоновая надпись «Добро пожаловать в наш мир!» загорается исключительно над теми, кто служит еще одним воплощением свального греха всесмешения.
В мире складок властвует даже не масса, а месиво. Классическая эвристика оставляет место абсолютного наблюдателя за Богом (его волю интерпретируют священнослужители, жрецы) или Природой (ее «детские» секреты выведывают ученые мужи). В мире складок абсолютное наблюдение «демократизировано». Все неопределенные элементы месива (уж точно не боги, но с еще меньшей вероятностью – люди) с ленивым любопытством, брезгуя и позевывая, взирают друг на друга. Иными словами, мир складок является идеальным плацдармом для шантажа и слежки: здесь каждый для каждого и не враг и не друг, атак – сосед-«доброжелатель». «Добрососедские» отношения в мире складок являют любого обитателя этого мира то как закаленное в беспрестанной конкуренции существо-капкан, то как живое воплощение толерантного лицемерия: существо-медузу, существо-кальмара – влажную и скользкую биоструктуру, состоящую сплошь из одних слизистых. Слизистый монстр не просто поселяется в индивиде, он заменяет индивиду «природу» и «сущность». Слизистый монстр – гений удовольствия (сопряги последнее хоть с бессознательным, хоть с машинерией желания); любой аспект существования этого монстра служит выражением логики случайных связей.
Наиболее точно идеология складчатого мира передается Жилем Делезом, чьи описания раскрывают нам этот мир как авансцену распада и тлена, как арену жизнедеятельности стай и толп, как перспективу крематорских труб, дымящих до самого неба. «Когда… Хайдеггер ссылается на Zwiefalt как на различающий элемент различия, он прежде всего имеет в виду, что различение связано не с чем-то изначально дифференцированным, но с Различием, которое непрестанно развертывается и изгибает складки по каждую из двух сторон, и развертывает одну сторону, не иначе как складывая другую, при сопредельности сокрытия и открытия Бытия, присутствия и ухода сущего… Складка, несомненно, наиболее важное понятие у Малларме, и не просто понятие, но скорее операция, операциональное действие, превращающее его в великого барочного поэта… Складка мира есть веер или «единодушный сгиб». И порою раскрытый веер опускает и вздымает все гранулы материи, прах и туманы… У Лейбница образом, аналогичным складкам веера, являются прожилки на мраморе. И, с одной стороны, там находятся всевозможные складки материи, следуя которым мы видим организмы под микроскопом; общности сквозь складки пыли, которую они сами – армии и толпы – вздымают; зелень сквозь желто-голубой прах; вздор и вымысел, кишение дыр, непрестанно питающих наши беспокойство, скуку и оцепенение. И затем, с другой стороны, там, где инфлексии становятся включениями – сгибы в душе…» [Делез. Складка, Лейбниц и барокко. 1998].
Инставрация порывает с коллекционированием разрывов и нанизыванием пустот. Вместо этого она обращает нас к укреплению связей и установлению отношений. Действие инставрации ближе к плетению, ткачеству, а в переносном смысле – к созданию материи, материала, основы, даже, если угодно, «базиса».
• Расправляя что бы то ни было, подобно тому как расправляют парус или крылья, инставрация открывает перед человеком, вещью или явлением перспективу аутентичности.
• Вправляя нечто – так, как вправляют вывихнутую руку или ногу, – она приводит любые структуры в рабочее состояние.
• Наконец, управляя чем-либо, наподобие того, как управляют другими и собой, она превращает в условие существования императив самоорганизации.
Помимо всего прочего, инставрация является еще и топологической категорией. Она означает принятие удобной позы, а в переносном смысле – занятие подобающего положения, приобретение искомой позиции, нахождение собственного места, обретение точки отсчета. Действие инставрации сопряжено, таким образом, с определением системы координат бытия.
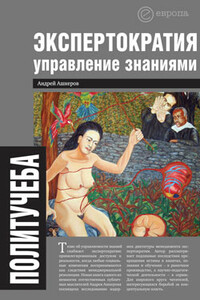
Тезис об управляемости знаний снабжает экспертократию привилегированным доступом к реальности, когда любые социальные изменения воспринимаются как следствия менеджериальной революции. Новая книга одного из немногих отечественных публичных мыслителей Андрея Ашкерова посвящена исследованию издержек диктатуры менеджмента экспертократии. Автор рассматривает подлинные последствия превращения истины в капитал, познания и обучения – в рыночное производство, а научно-педагогической деятельности – в сервис. Для широкого круга читателей, интересующихся борьбой за концептуальную власть.

Читателю предлагается одно из первых в России учебных пособий по основам теории политических партий, содержащее развернутый анализ происхождения, социально-политической природы и функций. В работе всесторонне раскрываются вопросы организационных основ партийного строительства, правового регулирования и финансово-хозяйственной деятельности политических партий, приводится сравнительный анализ и типология политических партий и партийных систем.Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, политических экспертов и консультантов, слушателей системы партийной учебы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Почему я собираюсь записать сейчас свои воспоминания о покойном Леониде Николаевиче Андрееве? Есть ли у меня такие воспоминания, которые стоило бы сообщать?Работали ли мы вместе с ним над чем-нибудь? – Никогда. Часто мы встречались? – Нет, очень редко. Были у нас значительные разговоры? – Был один, но этот разговор очень мало касался обоих нас и имел окончание трагикомическое, а пожалуй, и просто водевильное, так что о нем не хочется вспоминать…».

Деятельность «общественников» широко освещается прессой, но о многих фактах, скрытых от глаз широких кругов или оставшихся в тени, рассказывается впервые. Например, за что Леонид Рошаль объявил войну Минздраву или как игорная мафия угрожала Карену Шахназарову и Александру Калягину? Зачем Николай Сванидзе, рискуя жизнью, вел переговоры с разъяренными омоновцами и как российские наблюдатели повлияли на выборы Президента Украины?Новое развитие в книге получили такие громкие дела, как конфликт в Южном Бутове, трагедия рядового Андрея Сычева, движение в защиту алтайского водителя Олега Щербинского и другие.

Курская магнитная аномалия — величайший железорудный бассейн планеты. Заинтересованное внимание читателей привлекают и по-своему драматическая история КМА, и бурный размах строительства гигантского промышленного комплекса в сердце Российской Федерации.Писатель Георгий Кублицкий рассказывает о многих сторонах жизни и быта горняцких городов, о гигантских карьерах, где работают машины, рожденные научно-технической революцией, о делах и героях рудного бассейна.

Свободные раздумья на избранную тему, сатирические гротески, лирические зарисовки — эссе Нарайана широко разнообразят каноны жанра. Почти во всех эссе проявляется характерная черта сатирического дарования писателя — остро подмечая несообразности и пороки нашего времени, он умеет легким смещением акцентов и утрировкой доводить их до полного абсурда.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.