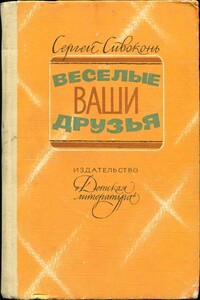По обе стороны утопии - [41]
Мотивы детскости встречаются не только у детских героев Платонова, но и у взрослых. В «Чевенгуре», например, они играет важную роль. Кирей видит во сне «греющий свет детства» (271)[297], а у Чепурного тревожная чевенгурская ночь вызывает воспоминание о подобных тоскливых ночах в детстве (254). Нередко упоминается тоска Дванова по отцу или Копенкина по матери. В детских взрослых или взрослых детях «Чевенгура» сопрягается тоска по прошлому[298] с наивной верой в будущее. Для Копенкина Роза — «продолжение его детства и матери» (164), а у Дванова нетерпение к будущему вызывает детскую «радость вбивать гвозди в стены, делать из стульев корабли и разбирать будильники, чтобы посмотреть, что там есть» (152). Персонажи романа не только скучают по детству, они отличаются и детским поведением — они плачут, рассуждают и мыслят по-детски.
Подводя итоги, можно сказать, что «детские» мотивы, о которых шла речь — близость к животным и очеловечивание животных, оппозиция малого и большого, незащищенность ребенка и фигура ребенка-спасителя, тоска взрослых по детству или их инфантильное поведение, — органически связаны с платоновской философией. Они окрашивают убеждения автора, придавая им «наивную», но, тем не менее, серьезную окраску.
Персонажи романа «Чевенгур» зачастую представляются читателю, согласно М. Горькому, не столько революционерами, сколько «чудаками» и «полоумными»[299]. В литературе о Платонове не раз было написано об инфантильных и безумных «полуинтеллигентах», о «святой простоте» странствующих «философов из народа» и «дураков». Социальный горизонт «дураков» из народа контрастирует у Платонова с мировоззрением «умных», грамотных людей. В то время как культура невежества показана изнутри как «свой» мир, элементы культуры письма и науки изображаются как вкрапления из «чужого» мира. Для первого мира характерен запас элементарных экзистенциалов, устойчивых мотивов семейной и рабочей жизни и циклическая ритмизация жизни. Язык простой культуры служит мерилом культуры «ума» и зеркалом, в котором отражаются осколки высокой культуры. Нередко, однако, это зеркало оказывается кривым, производящим комические или сатирические эффекты.
Происходит постоянное столкновение этих двух сфер, причем часто понятия одного языка переводятся на другой. Основная тенденция этих переводов — редукция комплексности до простых осязаемых фактов. В культуре невежества отсутствуют такие понятия, как социализм, революция, организация, идеология, директива и т. д., поэтому они подлежат постоянной интерпретации. В «Чевенгуре», например, даются различные истолкования коммунизма: по мнению одних, он похож на солнце и восходит летом, для других он существует лишь на одном острове в море или является движением в даль земли. Осуществление коммунизма сравнивается с тем парадоксальным фактом, что аэропланы летают, несмотря на то что «они, проклятые, тяжелее воздуха» (236). Социализм определяется как «конец всему», а революция — как «остатки тела Розы». Общественные и исторические категории редуцируются на отношения между единицами. Так, Захару Павловичу кажется, что война нарочно выдумывается властью, и он приходит к выводу: «Послали бы меня к Германцу, когда ссора только началась, я бы враз с ним уговорился, и вышло бы дешевле войны» (56). Во всех случаях преобладает принцип конкретизации, овеществления и отелеснения абстрактных понятий и в особенности перевода их на пространственные категории[300].
Противопоставление «глупости» и «ума» как константа платоновского творчества обостряется к концу 1920-х годов. В романе «Чевенгур» представителем «ума», без сомнения, является Прокофий Дванов. Его «давно увлекала внушительная темная сложность губернских бумаг, и он с улыбкой сладострастия перелагал их слог для уездного масштаба» (227). Когда Прокофий в финале романа делает список своего будущего имущества, Копенкин ругает его: «У людей тяжесть, а ты бумагу держишь» (400). «Ум» в «Чевенгуре» рождает бюрократизм и связанное с ним «умнейшее дело» (330) — организацию. В дискуссии с Чепурным Прокофий утверждает: «Чувство же, товарищ Чепурный, — это массовая стихия, а мысль — организация. Сам товарищ Ленин говорил, что нам организация выше всего» (211). Прокофию надлежит выражать то, что Чепурный инстинктивно чувствует, и он всегда старается сформулировать свои резолюции в строгом соответствии с сочинениями Маркса, которые знает наизусть. «Ты, Прокофий, не думай — думать буду я, а ты формулируй!» (208) — обращается к нему Чепурный.
На противоположном полюсе находятся такие «глупые» герои, как Саша Дванов, Копенкин, Чепурный и многие другие, которые в поисках истины социализма руководствуются не умом, а «чувством» и «сердцем»[301]. Они наполнены детской верой в возможность привести всех страдальцев мира в состояние товарищеской общности, нищеты и согласия с природой. Сам председатель чевенгурских коммунистов не разбирается в циркулярах, таблицах и постановлениях и чувствует себя освобожденным «от мучительства ума» (297). Для таких людей «ум» и вытекающие из него последствия — бюрократизм, организация и догматизм — основаны на грамоте, именно она маркирует четкую границу между официальной сферой письменности и устной культурой народа. Роман «Чевенгур» может служить классической иллюстрацией тезиса о том, что письму присуща тенденция к созданию автономного, бесконтекстного, отрешенного от действительности дискурса

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.
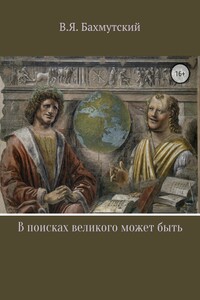
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.