Пламя судьбы - [9]
День еще не прошел, но в скругленных углах у мраморных ваз залегли мягкие предвечерние тени. Словно сквозь дымку виделись облицованные зеленоватым камнем стеньг, а с потолка словно падал хрустальный водопад – грустно поблескивали прозрачные подвески огромной люстры в форме дубовых листьев.
Присели на мягкую, обитую бархатом скамейку и стали ждать. Но никто не приходил за ними, и чувство потерянности, отступившее было, вновь вернулось к Параше.
– Я спущусь в кухмистерскую, – сказала горничная. – А ты побегай поблизости.
Параша огляделась. Справа и слева – вереницы открытых дверей, уходящие в бесконечность. Но справа вдали призывно блеснуло зеркало, и она заскользила к нему по натертому паркету. Мимо зелено-синего, с темными углублениями ниш, мимо бело-золотого... Каждая комната на особинку и каждая ошеломляет красотой и роскошью.
Мчится, мчится Параша, быстрее, быстрее, чтобы не просто остановиться, а замереть в зеркале от удара счастья. Все полыхает: краплачный цвет обоев, малиновый сарафан, алая лента, пятна на щеках... Все такое горячее, буйное...
Дворец был пуст. Позабыв обо всем на свете, движимая любопытством, Параша поднималась наверх по узким лестницам, оглаживая рукой пузатые балясины, спускалась вниз в парадные комнаты. От ее легких шагов подрагивал над головой серо-сиреневый хрусталь.
Ах! Это уже не назовешь комнатами – простор зовущий, заманивающий, затягивающий. Паркет убегает из-под ног, и вот Параша уже летит, не чувствуя ног. Алые сполохи разлетающегося сарафана... Раскинуть руки – и кружиться, кружиться, кружиться. Параша подлетела к окну. Еще шире, еще прекраснее мир – парк, ряды статуй, на празднике виденное здание оранжереи со стеклянными стенами и куполом. Кинулась к окнам напротив. Что это? Огненно-алая фигурка в белых чулочках скользит навстречу. Значит, не окна, значит, зеркала в оконных переплетах. Зеркала принимают ее и передают одно другому. И вот она снова подхвачена ритмом паркетного узора. Белое, золотое, алое, серебро хрусталя и зеркал... Так и прошлась вихрем до противоположной двери. Рядом с танцевальным залом еще одна комната... А из нее виден вестибюль, который она уже боялась потерять.
Чинно села на бархатную лавку. Как бьется сердце! Сейчас придет барин, и надо бы унять это в груди – вдруг услышит? Как хорошо ей! Стало стыдно на миг, что забыла про матушку, братцев, про темную дымную избу... Кто-то идет! Он!
Но пришел Василий Вороблевский. Он куда-то спешил и не заметил, что с ней произошло и как она изменилась.
– Быстро, за мной!
– К барину, да? – спросила на бегу Параша.
– Почему к барину? Барин в Москву уехал. Поначалу тобой княгиня займется.
Досадно как! Почему они все ничего не хотят о ней знать?
Марфа Михайловна была совсем не похожа на барыню, да еще княгиню. Полная, немолодая, с круглым лицом и очень черными прямыми бровями, одевалась она небрежно. На старой вязаной кофте не хватало пуговицы. Но лакею она приказала твердо и по княжески властно отныне в покои к ней приносить не четыре, а шесть унций конфет.
– У меня воспитанница, – кивнула она в сторону Параши.
Княгиня... Глаза у нее темные, ласковые... Княгиня... А комнатка на антресолях маленькая и низенькая. Ни золота, ни лепнины. И свечи в подсвечники лакей вставляет обгорелые, вынутые из люстр.
– Ну, будешь меня слушаться?
– Как же иначе? Вы ж княгиня!
Большая грудь Марфы Михайловны заколыхалась от смеха.
– Меня здесь не больно чтут. Приживалка и есть приживалка. А что, слуги тебе уже насплетничали?
– Нет. Но если бы вы и не княгиня были... Я бы все равно вас слушаться стала.
Темные глаза внимательно взглянули на Парашу.
– Молодец. Умница. А ты на деревенскую совсем не похожа. Какая тоненькая. И... сообразительная. А я настоящая княгиня. Потому что царского рода, и фамилия моя – Долгорукая.
– Как у Наталии Борисовны?
– Э, да ты и о ней знаешь? Ее мужу я родственница дальняя, а вашему барину и вовсе седьмая вода на киселе.
Между тем лакей принес пышущий жаром небольшой самовар, блюдо с пряниками и вазочку с конфетами.
Марфа Михайловна протянула Параше леденец, пахнувший грушей:
– Ешь.
Параша зажала леденец в кулак:
– Я сестренке. Матреше. Она еще леденцов не пробовала.
– Ешь. Сестренку не скоро увидишь. Так вот... Княгиня-то я княгиня, но... Пустоцвет. Муж рано умер, детей нет. Наследство все супруг успел по миру пустить. Если бы не барин ваш, не знаю, что бы и делала. Хоть по миру иди...
– Барин-музыкант?
– Ты о молодом, что ли? При чем здесь молодой? Нет, не Николай. Петр Борисович. Но и Николай никого не обидит. Дай им Господь счастья. Я тебе все расскажу. С дворовыми не положено о господах, я вот молчу и молчу. А с тобой много говорить будем. Вот это знаешь что?
– На балалайку похоже чуточку.
– Гитара.
Марфа Михайловна тронула одну струну, другую, третью. Звук был не верхний и не короткий, как у балалайки, он начинался где-то внутри инструмента, нарастал и длился долго, обрастая дополнительными тонами.
– Можно?
Параша взяла одну ноту, другую. Вот так будет «Барыня», так – песня про речку.
– О, да ты очень... сообразительная. У тебя к музыке большая склонность. Будем с тобой заниматься.

Витя — превосходный музыкант, кларнетист от Бога. Но высокое искусство почему-то плохо кормит его жену и детей. И вот жена Манечка отправляет образцового мужа искать златые горы… Был раньше такой жанр: «Лирическая комедия». Помните незадачливого вертолётчика Мимино, предприимчивого сантехника Афоню, совестливого угонщика Юрия Деточкина? Вот и кларнетист Витя — оттуда родом.

Тяжкие испытания выпали на долю героев повести, но такой насыщенной грандиозными событиями жизни можно только позавидовать.Василий, родившийся в пригороде тихого Чернигова перед Первой мировой, знать не знал, что успеет и царя-батюшку повидать, и на «золотом троне» с батькой Махно посидеть. Никогда и в голову не могло ему прийти, что будет он по навету арестован как враг народа и член банды, терроризировавшей многострадальное мирное население. Будет осужден балаганным судом и поедет на многие годы «осваивать» колымские просторы.

В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга представляет собой философскую драму с элементами романтизма. Автор раскрывает нравственно-психологические отношения двух поколений на примере трагической судьбы отца – японского пленного офицера-самурая и его родного русского любимого сына. Интересны их глубокомысленные размышления о событиях, происходящих вокруг. Несмотря на весь трагизм, страдания и боль, выпавшие на долю отца, ему удалось сохранить рассудок, честь, благородство души и благодарное отношение ко всякому событию в жизни.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся философией жизни и стремящихся к пониманию скрытой сути событий.
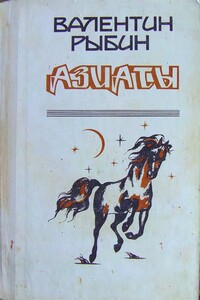
В основе романа народного писателя Туркменистана — жизнь ставропольских туркмен в XVIII веке, их служение Российскому государству.Главный герой романа Арслан — сын туркменского хана Берека — тесно связан с Астраханским губернатором. По приказу императрицы Анны Иоановны он отправляется в Туркмению за ахалтекинскими конями. Однако в пределы Туркмении вторгаются полчища Надир-шаха и гонец императрицы оказывается в сложнейшем положении.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.