Пхова - [3]
Это как сон? Да, это как сон. Научи меня, как мне тебе присниться, ведь ты все равно уходишь, а я всё преследую тебя. Как те два голубя, голубь и голубица, помнишь, она бежала на него и пробегала мимо и снова возвращалась и пробегала мимо, словно она говорила: ну же, ну же, ну что ты?
Но когда же я увидел тебя, именно тебя, в первый раз, я, твой Калибан и твой Ариэль? Вспомнить взгляд, с которого началась эта история, которую кто-то рассказывает себе каждый день, лежа на диване или зажатый в метрополитенной толпе, бродя по улицам, снова находя себя, чтобы потерять и чтобы снова найти у той реки, у той полуразрушенной башни, чья тень на воде, рассказываю себе каждый день, путая конец и начало, когда же, когда, так долго не отводя взгляда: „кто ты?“ – „а ты?“ – „какое ты имеешь право так долго смотреть мне в глаза?“ – „что ты за женщина – птица, кошка?“ – „опусти дерзкий взгляд!“ – „нет, это ты должна подчиниться!“ – „как ты смеешь так долго!“
Айстэ, Айстэ, может быть, вот сейчас и в самом деле все начинается, сейчас, когда я уже мертв. Кто, и кому, и о чем рассказывает здесь, где времени нет, и нет никакого дивана, ни темной улицы, ни этой реки с полуразрушенной башней на берегу?
Как ты, Айстэ, раздеваешь девочку и кладешь. И как она шевелит ножками, оглядываясь и ища над собой эти блестящие синие, красные круглые, с веселым потрескиванием изнутри, эти разноцветные погремушки, в которые можно толкаться ручками, толкаться ножками. Большие полные шары на белой резинке, что натянута поперек двух загородок. Те твои фотографии, Айстэ, где ты склонилась к девочке и где ты стоишь, прижимая к себе свою малышку, те твои фотографии, которые настигли меня, когда я тебя искал, чтобы просить прощения, когда не помог мне тот нож, то раскаленное лезвие, фотографии в иллюстрированном журнале „Еlle“: „Известная скрипачка и джазовая певица, экстравагантная noise-maker[2] в кругу семьи со своей маленькой девочкой“. Что это было? Моя неудавшаяся попытка. Тогда этот нож снова вошел глубоко, чтобы еще мучительнее было мое умирание. От любви к тебе, Айстэ, от любви к тебе.
Тот концерт, ты скажешь, что это был тот концерт, когда мы с тобой познакомились, Айстэ, когда нас познакомил мой друг. Ты была еще тогда его женщина, и ты передала мне в гардеробе номерок, и тогда проскочила эта невидимая электрическая искра, меня и в самом деле ударило электричество. Электричество, из которого состоит и молния, и смерть, и любовь. Тогда мы случайно коснулись пальцами, ты сузила зрачки, одиннадцать было вытравлено на номерке, и ты сказала про два счастливых числа – одиннадцать и тринадцать, и ты поднялась за кулисы, а я вслед за своим другом спустился в зал, чтобы ждать и чтобы потом с удивлением вслушиваться в эти странные звуки, когда ты то удлиняла, то укорачивала струну, а потом стала царапать деку своего инструмента и вдруг легко, божественно и виртуозно заиграла Вивальди, который, как ты потом мне со смехом сказала, был совсем не Вивальди, и был бы, быть может, вершина Вивальди, если бы не был тогда же тобой же небрежно сымпровизированный концерт. Потом ты оставила скрипку, её опустив, её отпустив, чтобы твой магический голос наполнил пространство, разрастаясь и разрастаясь, завораживая сидящих, настигая их в их неподвижности, словно каждый в себе открывал другие пространства, чтобы забыть свою жизнь. И было достаточно одной-единственной ноты, бесконечно богатой, светящейся и пушистой ноты, что проникала и проникала сквозь темноту, летя и в самой себе множа эти пространства и вновь возвращаясь к темноте, вновь возвращаясь на свою траекторию медленного светящегося падения. Я помню, ты смотрела на меня, только на меня, я помню, только на меня, да, на меня, не отводя взгляда.
Джаз, джаз, это всё твой проклятый джаз…
В той гостинице тоже был этот джаз, в той гостинице, где вы остановились с матерью и куда я потом приходил, мучительно приходил, потому что не мог не прийти, потому что себе уже не принадлежал, приходил, чтобы идти, куда ты прикажешь, и ты смеялась и ты хлопала в ладоши, и я шел и покупал тебе чай, чай, чай…
Как твоя мать переходит из комнаты в комнату и как держит в руках черный тюльпан, и как она ищет, ищет и не знает, ищет, ищет и не видит, ищет, ищет и не может найти, и как то, чего нет, есть.
Здесь, где нет времени, где есть только этот голос и где я говорю „он“, зная, что он – это я, и что он – это не я, и что он – это и я, и не я, теперь здесь я вижу маленькую девочку с белыми, как у зайчика, ушами, которая бежит по коридору и прыгает на колени к своей матери, и эта маленькая девочка, Айстэ, – ты. И еще я вижу, как твоя мать поворачивается и как смотрит, и у нее длинный и острый клюв, да, длинный, острый и хищный клюв, а в руках черный тюльпан, и она смотрит, и она ищет, переводя эти узко посаженные глаза, раскосые с поволокой павлиньи глаза, и на лбу у нее вишневое пятно. Мой бедный друг, он слишком долго стоял на ветру, ничего не понимая и ни о чем не догадываясь, торгуя с лотка сигаретами, лишь бы твоя мать с урчанием по вечерам ела мясо, запивая его красным вином, нашептывая о шекспировской „Буре“ и о том, что и после смерти – Ромео – Ромео, что и после смерти – Джульетта – Джульетта, что и после смерти мертвые продолжают любить друг друга там, в нигде. Черная птица с длинным клювом, когда-то и она хотела стать счастливой и сама была маленькой девочкой с мечтами о домике на берегу синего моря, где по вечерам на закате можно читать счастливую книгу.

«Он зашел в Мак’Доналдс и взял себе гамбургер, испытывая странное наслаждение от того, какое здесь все бездарное, серое и грязное только слегка. Он вдруг представил себя котом, обычным котом, который жил и будет жить здесь годами, иногда находя по углам или слизывая с пола раздавленные остатки еды.».

«Легкая, я научу тебя любить ветер, а сама исчезну как дым. Ты дашь мне деньги, а я их потрачу, а ты дашь еще. А я все буду курить и болтать ногой – кач, кач… Слушай, вот однажды был ветер, и он разносил семена желаний…».
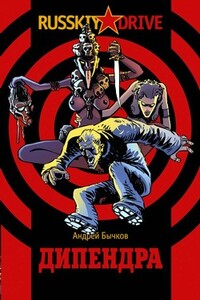
«Он взял кольцо, и с изнанки золото было нежное, потрогать языком и усмехнуться, несвобода должна быть золотой. Узкое холодное поперек языка… Кольцо купили в салоне. Новобрачный Алексей, новобрачная Анастасия. Фата, фата, фата, фата моргана, фиолетовая, газовая.».
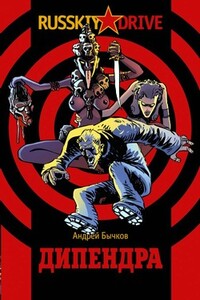
«А те-то были не дураки и знали, что если расскажут, как они летают, то им крышка. Потому как никто никому никогда не должен рассказывать своих снов. И они, хоть и пьяны были в дым, эти профессора, а все равно защита у них работала. А иначе как они могли бы стать профессорами-то без защиты?».
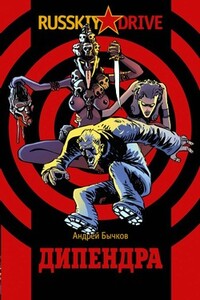
«Признаться, меня давно мучили все эти тайные вопросы жизни души, что для делового человека, наверное, покажется достаточно смешно и нелепо. Запутываясь, однако, все более и более и в своей судьбе, я стал раздумывать об этом все чаще.».

«Знаешь, в чем-то я подобна тебе. Так же, как и ты, я держу руки и ноги, когда сижу. Так же, как и ты, дышу. Так же, как и ты, я усмехаюсь, когда мне подают какой-то странный знак или начинают впаривать...».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
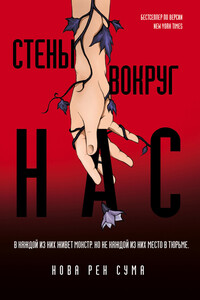
Тюрьма на севере штата Нью-Йорк – место, оказаться в котором не пожелаешь даже злейшему врагу. Жесткая дисциплина, разлука с близкими, постоянные унижения – лишь малая часть того, с чем приходится сталкиваться юным заключенным. Ори Сперлинг, четырнадцатилетняя балерина, осужденная за преступление, которое не совершала, знает об этом не понаслышке. Но кому есть дело до ее жизни? Судьба обитателей «Авроры-Хиллз» незавидна. Но однажды все меняется: мистическим образом каждый август в тюрьме повторяется одна и та же картина – в камерах открываются замки, девочки получают свободу, а дальше… А дальше случается то, что еще долго будет мучить души людей, ставших свидетелями тех событий.

Я был примерным студентом, хорошим парнем из благополучной московской семьи. Плыл по течению в надежде на счастливое будущее, пока в один миг все не перевернулось с ног на голову. На пути к счастью мне пришлось отказаться от привычных взглядов и забыть давно вбитые в голову правила. Ведь, как известно, настоящее чувство не может быть загнано в рамки. Но, начав жить не по общепринятым нормам, я понял, как судьба поступает с теми, кто позволил себе стать свободным. Моя история о Москве, о любви, об искусстве и немного обо всех нас.

В городе появляется новое лицо: загадочный белый человек. Пейл Арсин — альбинос. Люди относятся к нему настороженно. Его появление совпадает с убийством девочки. В Приюте уже много лет не происходило ничего подобного, и Пейлу нужно убедить целый город, что цвет волос и кожи не делает человека преступником. Роман «Белый человек» — история о толерантности, отношении к меньшинствам и социальной справедливости. Категорически не рекомендуется впечатлительным читателям и любителям счастливых финалов.