Петрушка — душа скоморошья - [3]
Музыканты заиграли на дудке и домре, скоморох-великан начал бить в бубен.
— А ну-ка, брательник мой Михайло, — тоненьким голоском закричал рыжий поводырь, — потешь честной народ!
Медведь в такт музыке начал поднимать лапы и трясти их. Браслеты с бубенцами звенели, и получалось, что косолапый тоже участвует в оркестре.
— А теперь, брательник мой Михайло, — продолжал поводырь, — покажи, как боярская дочка красоту наводит!
Медведь уселся на снег, начал тереть одной лапой морду, а другой лапой приглаживать шерсть на голове.
— Ну точь-в-точь наша боярышня! — едва не падая от смеха, не то вскрикнула, не то всхлипнула какая-то баба. — А причёсывается-то, а причёсывается-то — потеха!..
Затем медведь показывал, как бабы носят вёдра на коромысле, как ребята горох таскают. Он так неуклюже, воровато, то и дело замирая от страха, подкрадывался к воображаемому гороху, что сами ребятишки-горохоеды смеялись звонче всех.
Скоморохи представили встречу медведя с купцами.
Купцы-скоморохи просили медведя не трогать их товары, но медведь показывал, что у него, мол, медвежат много, все мал мала меньше и все есть хотят.
Некоторые зрители стали кричать, что «медведь обманный»: в медвежьей шкуре, мол, выступает скоморох. Пришлось поводырю водить зверя по толпе, чтоб все убедились — дело чистое.
Михайло долго ещё развлекал собравшихся. А потом Петруха обрядился козой: надел на голову мешок, который заканчивался козлиной головой.
Рыжий поводырь начал выбивать на бубне дробь, «коза» заблеяла и принялась бодать медведя.
Медведь зарычал, встал на задние лапы, начал за «козой» бегать.
«Коза» оказалась увёртлива — Михайло едва успевал поворачиваться.
В конце концов «коза» и медведь вместе стали плясать под музыку, а зрители им подпевали.
Медведь снял с тощего скомороха шляпу с пером и пошёл со шляпой по кругу — деньги собирать.
сняв «козу», закричал Петруха, —
Если кто давал что-либо съедобное, медведь тотчас же отправлял еду себе в пасть и низко кланялся.
Рыжий поводырь весело покрикивал:
— Я тоже голодный, у меня живот холодный!
И стоило Михайле замешкаться на мгновение, как поводырь ловко выхватывал из медвежьих когтей то пирог, то рыбину, то кусок сала.
Медведь урчал, сердился, топал ногами. Толпа хохотала.
Потом выступал тощий скоморох — он показывал фокусы и жонглировал крутыми яйцами.
Великан Потихоня показывал свою силу, а Петруха плясал на руках.
…А в это время недавний скоморохов попутчик находился в тёмных сенях дома полонского воеводы Трифона Архарова и ждал, когда воевода позовёт его к себе.
Воевода же с гостями сидел за широким столом, на котором дымились стопы свежих блинов.
Хозяин и гости уже опорожнили не один бочонок мёда и браги, настроение у них было отменное.
— Сказывают, скоморохи в город явились, — молвил кто-то из гостей.
— Богохульники, воры, адово исчадье… — запыхтел толстый поп, едва не подавившись блином. — Гореть им в адском огне, слугам антихристовым…
— Чего тебе? — недовольно спросил подошедшего слугу воевода. — Что ты вокруг меня вьёшься как ворон?
— Дозволь, боярин, слово молвить, — поклонился до полу слуга, искоса поглядывая на гостей.
— Благослови ты его ковшом по лбу! — посоветовал воеводе толстый поп. — Пусть ведает, как мешать трапезе! — И, промахнувшись спьяну, попал блином вместо рта себе в бороду.
— Дело! — хватая тяжёлый ковш, усмехнулся воевода.
— Ярёмка явился!.. — прильнув к уху воеводы, скороговоркой прошептал слуга.
Воевода выпустил ковш. Тряхнул головой, сгоняя хмель. Ответил тихо, чтобы любопытный попик не расслышал:
— Проведи его ко мне в покои, пусть ждёт…
«Воевода-батюшка»
…А как наш воевода во тереме сидит,
Во тереме сидит, думу думает,
Думу думает, развесёлую…
(Из песни-скоморошины)
В доме воеводы всё было жирное да толстое — и собаки, и слуги, и приживалки, и воеводины дочки, и сама воеводиха. Даже мышей так распирало от обжорства и сытости, что они катались по полу, словно маленькие серые бочонки. Жрали мыши до отвала и часто не могли пролезть назад в нору — надутый живот не пускал.
Двери смазывали жиром — чтобы не скрипели. Половицы натирали жиром — чтобы блестели, замки сундучные — чтобы не ржавели. В доме всё было словно салом облепленное — липучее да скользкое.
Ярёмка, невзрачный плешивый мужичонка в рваном зипуне и старых лаптях, приведён был в боярские покои. Он сел на пузатую, блестящую в мерцании лампад лавку. Лавка оказалась скользкой. Ярёмка чуть с неё на пол не съехал. Однако приноровился, усидел.
Тепло разморило Ярёмку. Вздремнул в полглаза. Не услышал, как вошёл воевода.
Воевода был строен и статен. Чужим казался в своём толстом и жирном доме. Борода расчёсанная — серебро с золотом. Ходил легко — половица не скрипнет.
Ярёмка сквозь сладкий, липкий полусон увидел вдруг перед собой сверкающую, холёную воеводскую бороду, сноровисто соскользнул с лавки, поклонился так истово, что чуть в живот боярину головой не въехал.
— Ну, холоп, что скажешь? — спросил ласково воевода.
Ярёмка заговорил сбивчиво, то и дело жалуясь на нищету свою, стараясь выклянчить у воеводы подачку поболе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
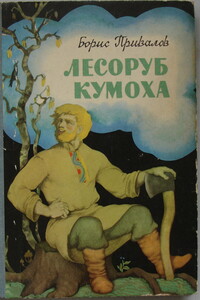
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
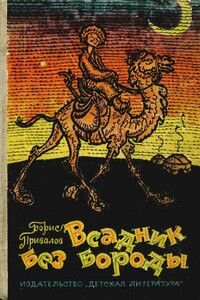
Юмористическая повесть по мотивам казахских народных преданий, сказок и анекдотов. Для среднего возраста.
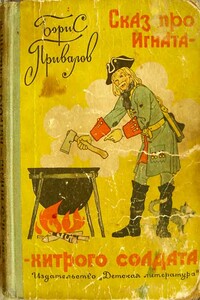
«Озорная повесть о народной смекалке» — так описано содержание книги в печатном оригинале. Но этой короткой фразы явно недостаточно для характеристики повести. В ней удачно сочетаются мотивы русских народных сказок, баек, анекдотов и литературного творчества автора. В результате получилась увлекательная книга о борьбе отставного солдата с давними врагами русских крестьян — помещиком, его прислужниками, попом. В итоге, как и положено в сказке, побеждает справедливость. .

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
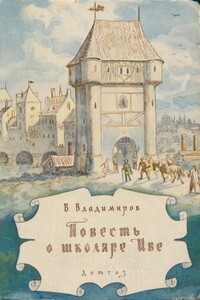
В книге «Повесть о школяре Иве» вы прочтете много интересного и любопытного о жизни средневековой Франции Герой повести — молодой француз Ив, в силу неожиданных обстоятельств путешествует по всей стране: то он попадает в шумный Париж, и вы вместе с ним знакомитесь со школярами и ремесленниками, торговцами, странствующими жонглерами и монахами, то попадаете на поединок двух рыцарей. После этого вы увидите героя смелым и стойким участником крестьянского движения. Увидите жизнь простого народа и картину жестокого побоища междоусобной рыцарской войны.Написал эту книгу Владимир Николаевич Владимиров, известный юным читателям по роману «Последний консул», изданному Детгизом в 1957 году.

Роман основан на подлинных сведениях Мухаммада ат-Табари и Ахмада ал-Балазури – крупнейших арабских историков Средневековья, а также персидского летописца Мухаммада Наршахи.

Роман является третьей, завершающей частью трилогии о трудном пути полковника Генерального штаба царской армии Алексея Соколова и других представителей прогрессивной части офицерства в Красную Армию, на службу революционному народу. Сюжетную канву романа составляет антидинастический заговор буржуазии, рвущейся к политической власти, в свою очередь, сметенной с исторической арены волной революции. Вторую сюжетную линию составляют интриги У. Черчилля и других империалистических политиков против России, и особенно против Советской России, соперничество и борьба разведок воюющих держав.
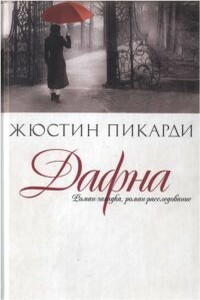
Британские критики называли опубликованную в 2008 году «Дафну» самым ярким неоготическим романом со времен «Тринадцатой сказки». И если Диана Сеттерфилд лишь ассоциативно отсылала читателя к классике английской литературы XIX–XX веков, к произведениям сестер Бронте и Дафны Дюморье, то Жюстин Пикарди делает их своими главными героями, со всеми их навязчивыми идеями и страстями. Здесь Дафна Дюморье, покупая сомнительного происхождения рукописи у маниакального коллекционера, пишет биографию Бренуэлла Бронте — презренного и опозоренного брата прославленных Шарлотты и Эмили, а молодая выпускница Кембриджа, наша современница, собирая материал для диссертации по Дафне, начинает чувствовать себя героиней знаменитой «Ребекки».

«Впервые я познакомился с Терри Пэттеном в связи с делом Паттерсона-Пратта о подлоге, и в то время, когда я был наиболее склонен отказаться от такого удовольствия.Наша фирма редко занималась уголовными делами, но члены семьи Паттерсон были давними клиентами, и когда пришла беда, они, разумеется, обратились к нам. При других обстоятельствах такое важное дело поручили бы кому-нибудь постарше, однако так случилось, что именно я составил завещание для Паттерсона-старшего в вечер накануне его самоубийства, поэтому на меня и была переложена основная тяжесть работы.
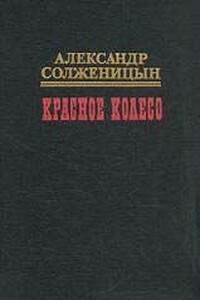
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.