Петр I - [16]
15 сентября 1857 года Салтыков-Щедрин, отнюдь не славянофил, категорически сформулировал свое отношение к первому российскому императору в письме к литератору И. В. Павлову: «Вот ты ругаешь Петра за крепостное состояние и за бюрократию, однако ж и оправдываешь его обстоятельствами времени; а я так и того не делаю, а просто нахожу, что он был величайший самодур своего времени»[44]. Салтыков-Щедрин понимал, как мучительно трудно будет России выламываться из петровской модели.
Тень Петра витала над судьбами лучших представителей русской интеллигенции.
Владимир Сергеевич Печерин – один из самых нетривиальных персонажей в истории русской мысли, талантливый филолог, бежавший из николаевской России, перешедший в католичество и на двадцать лет ставший миссионером и проповедником монашеского Ордена редем-птористов, основанного в первой трети XVII века для проповеди слова Божия среди бедных и обездоленных. Разочаровавшись в монашестве, уйдя из Ордена, Печерин, вернувшийся к напряженным размышлениям о судьбе России, писал из Дублина в октябре 1865 года своему племяннику: «Вы, мне кажется, смотрите с мрачной стороны на развитие русского народа. Если народ невежествен и учиться не хочет, то что ж тут делать? Нельзя же насильно его образовывать. Ведь петровская система никуда не годится. Тут надобно иметь терпение. Хорошие доктора, когда видят, что сами не могут помочь больному, оставляют действовать природу»[45]. То есть умудренный своим мучительным жизненным опытом, опытом радикальных решений, Печерин противопоставляет революционности Петра эволюционный метод.
Но деятельность первого императора – именно деятельность, а не результат, что принципиально, – одобряли люди, казалось бы, совершенно по-иному представлявшие себе смысл русской судьбы и пути ее реализации.
Алексей Степанович Хомяков, один из основателей славянофильства, ведущей историософской идеей которого была идея саморазвития общества, в своей основополагающей работе «О старом и новом», решительно отрицавшей правомочность вмешательства в процесс саморазвития внешних факторов, тем не менее позже писал: «…Один из могущественнейших умов и едва ли не сильнейшая воля, какие представляет нам летопись народов, был Петр. Как бы строго ни судила его будущая история (и бесспорно, много тяжелых обвинений падает на его память), она признает, что направление, которого он был представителем, не было совершенно неправым; оно сделалось неправым только в своем торжестве, а это торжество было полно и совершенно». И еще более определенно: «Трудно сказать, чего именно хотел Петр и сознавал ли он последствия своего дела. По всем вероятностям, он искал пробуждения русского ума.
Многие из его современников, может быть самые достойные его понимать, не поняли его. Петр вводил к нам европейскую науку; через это он вводил к нам всю жизнь Европы. Таково было необходимое последствие его дела, но в этом отношении он был не бессознателен. Его борьба была с целою несколько закосневшею жизнию, и он боролся с нею во всех ее направлениях. Он вводил все формы Запада, все, даже самые неразумные; он искажал многое, чего не должен был касаться; он искажал прекрасный язык русский, он искажал самое свое благородное имя, коверкая его в голландскую форму Питер; но это было ему необходимо. Он хотел потрясти вековой сон, он хотел пробудить спящую русскую мысль посредством болезненного потрясения. – Этот суд не строг. Человек боролся, и в борьбе разгорелись страсти, и он увлекся тем нетерпением, которое так естественно историческим деятелям, которое так естественно всякому человеку при встрече с препонами в подвиге, который он считает добрым»[46].
Но характеризуя конечный результат преобразований Петра, Хомяков декларирует: «В России эта ошибка достигла громадных, почти невероятных размеров <…>. Формы, облекающие просвещение, приняты были нами за самое просвещение»[47].
Позиция европейски образованного и на Европу ориентированного славянофила Хомякова по своей парадоксальности вполне соответствует парадоксальности петровской эпохи. И это характерно для большинства попыток четко оценить «революцию Петра» (по Пушкину. – Я. Г,!), не поддающуюся простой и плоско объективной оценке.
Н. Я. Данилевский, теоретик панславизма, провозгласивший идею особого пути России и считавший, что Европа нам чужда и враждебна, выразительно начертал картину России, какой она стала после петровских преобразований, и постарался дать этим преобразованиям уравновешенную оценку.
В своем знаменитом труде «Россия и Европа» он писал: «Если Европа внушала Петру страстную любовь, страстное увлечение, то к России относился он двояко. Он вместе и любил, и ненавидел ее. Любил он в ней собственную ее силу и мощь, которую не только предчувствовал, но уже сознавал, – любил в ней орудие своей воли и своих планов, любил материал для здания, которое намеревался возвести по образу и подобию зародившейся в нем идеи, да под влиянием европейского образца; ненавидел же самые начала русской жизни – самую жизнь эту, как с ее недостатками, так и с ее достоинствами. Если бы он не ненавидел ее со всею страстностью своей души, то обходился бы с нею осторожнее, бережливее, любовнее. – Потому в деятельности Петра необходимо строго отличать две стороны: его деятельность государственную, все его военные, флотские, административные, промышленные насаждения, и его деятельность реформативную в тесном смысле этого слова, т. е. изменения в быте, нравах, обычаях и понятиях, которые он старался произвести в русском народе. Первая деятельность заслуживает вечной признательной, благоговейной памяти и благословения потомства. Как ни тяжелы были для современников его рекрутские наборы (которыми он не только пополнял свои войска, но строил города и населял страны), введенная им безжалостная финансовая система, монополии, усиление крепостного права, одним словом, запряжения всего народа в государственное тягло, – всем этим заслужил он себе имя Великого – имя основателя русского государственного величия. Но деятельностью второго рода он не только принес величайший вред будущности России (вред, который так глубоко пустил свои корни, что доселе еще разъедает русское народное тело), он даже бесполезно затруднил свое собственное дело: возбудил негодование своих подданных, смутил их совесть, усложнил свою задачу, сам устроил себе препятствия, на поборение которых должен был употребить огромную долю той необыкновенной энергии, которою был одарен и которая, конечно, могла бы быть употреблена с большею пользою. К чему было брить бороды, надевать немецкие кафтаны, загонять в ассамблеи, заставлять курить табак, учреждать попойки (в которых даже пороки и распутство должны были принимать немецкую форму), искажать язык, вводить в жизнь придворную и высшего общества иностранный этикет, менять летосчисление, стеснить свободу духовенства? К чему ставить иностранные формы жизни на первое почетное место и тем накладывать на все русское печать низкого и подлого, как говорилось в то время? Неужели это могло укрепить народное сознание? Конечно, одних государственных нововведений было недостаточно: надо было развить то, что всему дает крепость и силу, т. е. просвещение; но что же имели общего с истинным просвещением все эти искажения народного облика и характера? Просвещение к тому же не насаждается по произволу, как меняется форма одежды или вводится то или другое административное устройство. Его следовало не насаждать извне, а развивать изнутри. Ход его был бы медленнее, зато вернее и плодотворнее»
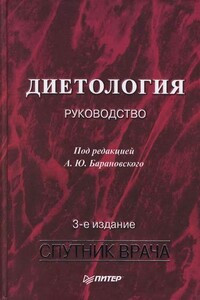
Третье издание руководства (предыдущие вышли в 2001, 2006 гг.) переработано и дополнено. В книге приведены основополагающие принципы современной клинической диетологии в сочетании с изложением клинических особенностей течения заболеваний и патологических процессов. В основу книги положен собственный опыт авторского коллектива, а также последние достижения отечественной и зарубежной диетологии. Содержание издания объединяет научные аспекты питания больного человека и практические рекомендации по использованию диетотерапии в конкретных ситуациях организации лечебного питания не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях.Для диетологов, гастроэнтерологов, терапевтов и студентов старших курсов медицинских вузов.
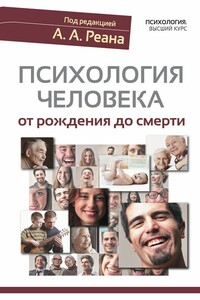
Этот учебник дает полное представление о современных знаниях в области психологии развития человека. Книга разделена на восемь частей и описывает особенности психологии разных возрастных периодов по следующим векторам: когнитивные особенности, аффективная сфера, мотивационная сфера, поведенческие особенности, особенности «Я-концепции». Особое внимание в книге уделено вопросам возрастной периодизации, детской и подростковой агрессии.Состав авторского коллектива учебника уникален. В работе над ним принимали участие девять докторов и пять кандидатов психологических наук.
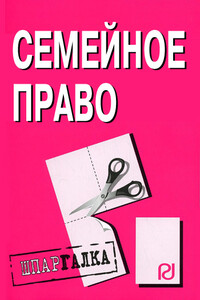
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Семейное право».Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Семейное право».
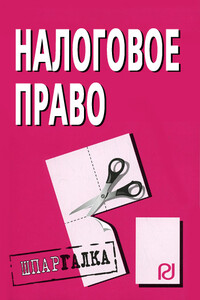
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Налоговое право».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Налоговое право» в высших и средних учебных заведениях.
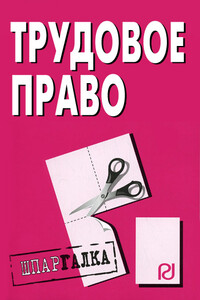
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Трудовое право».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Трудовое право».
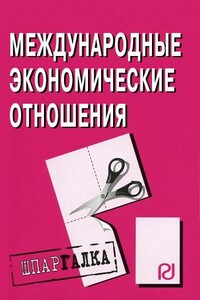
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Международные экономические отношения».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Международные экономические отношения» в высших и средних учебных заведениях.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».