Петербург Пушкина - [11]
Далее поэт рисует завсегдатаев светских балов.
«Тут был на эпиграммы падкий, на все сердитый господин… Тут был Проласов, заслуживший известность низостью души… В дверях другой диктатор бальный стоял картинкою журнальной, румян, как вербный херувим, затянут, нем и недвижим».
В варианте, не опубликованном Пушкиным, дано понять, что это и есть тот придворный мир, который окружал царя. На балу появляется Лалла Рук (прозвище жены Николая I).
Изображение царской четы на фоне сатирической картины великосветского бала являлось, конечно, в глазах двора большой дерзостью. По поводу этого наброска А. О. Россет писала:
«Пушкин читал нам «Онегина». Много смеялись над описанием вечеров, оно забавно; но всего нельзя будет напечатать. Он отлично изобразил императрицу, крылатую лилию Лалла Рук; совершенно обрисовывает ее».[92]
Пушкин, живо интересуясь в последний период своей жизни борьбой народа против угнетения, фольклором, создавая сказки, повести «История села Горюхина», «Дубровский», «Капитанская дочка», исследования о восстании Пугачева, отдавал дань художника и петербургским впечатлениям, разнообразно преломляя их в своем творчестве. Гневные оценки Пушкиным великосветского общества Петербурга не характеризуют по существу отношения поэта к великому русскому городу. Только в поэме «Медный всадник» поэт ответил на вопрос об историческом значении Петербурга.
В августе 1833 года Пушкин временно прощался с северной столицей, уезжая в Поволжье.
Жене с дороги он писал:
«Нева так была высока, что мост[93] стоял дыбом; веревка была протянута, и полиция не пускала экипажей. Чуть было не воротился я на Черную Речку. Однако переправился через Неву выше и выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья по Царскосельскому проспекту так и валялись, я насчитал их с пятьдесят. В лужицах была буря. Болота волновались белыми волнами… Что-то было с вами, петербургскими жителями? Не было ли у вас нового наводнения? Что, если и это я прогулял? Досадно было бы».[94]
Впечатление от начинающегося наводнения было столь сильно, что оно дало толчок поэту к осуществлению задуманной им поэмы о петербургском наводнении 7 ноября 1824 года. Продолжая свое путешествие, Пушкин писал жене в сентябре 1833 года:
«Уехал писать, так пиши же… поэму за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит — я и в коляске сочиняю».[95]
При первой вести о наводнении 7 ноября 1824 г. он писал брату из Михайловского:
«Что это у вас? Потоп! Ничто проклятому Петербургу».
Четвертого декабря, упорно называя наводнение библейским термином «потоп», он вновь пишет брату и сестре:
«Этот потоп с ума мне нейдет».[96]
Пушкин удовлетворен тем, что в Петербурге объявлен траур.
«Закрытие феатра и запрещение балов — мера благоразумная. Благопристойность того требовала. Конечно, народ не участвует в увеселениях высшего класса, но во время общественного бедствия не должно дразнить его обидной роскошью. Лавочники, видя освещение бельэтажа, могли бы разбить зеркальные окна…»
Далее поэт просит выделить какую-нибудь сумму из его гонорара за «Евгения Онегина» для помощи «несчастным».
«Но прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного».[97]
Итак, наводнение 1824 года и впечатление от Невы в час отъезда из Петербурга в 1833 году дали материал поэту для его будущей поэмы «Медный всадник». Чтение Пушкиным «Дзядов» Мицкевича подкрепило желание написать поэму о Петербурге, в которой был бы дан апофеоз этого города. В основу поэмы Пушкин, как уже было здесь отмечено, положил мысль о «победе человеческой воли над супротивлением стихий».[98] Свою поэму Пушкин назвал «Петербургской повестью». Обитатель Коломны, мелкий чиновник из обедневшего дворянского рода, потерпел крах в своей личной жизни, крах, который он осознал как результат создания «града Петра» на болоте. Белинский превосходно определил основную идею «Медного всадника».
«При взгляде на великана, гордо и неколебимо возносящегося среди всеобщей гибели и разрушения и как бы символически осуществляющего собою несокрушимость его творения, мы хотя и не без содрогания сердца, но сознаемся, что этот бронзовый гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства[99]».[100]
Наводнение дано в трех моментах.
И далее:
Далее дан город во власти затопившей его реки.
Торжество стихийных сил длилось недолго.
«Медный всадник» торжествует.
«И нам чудится, что среди хаоса и тьмы этого разрушения из его медных уст исходит творящее „да будет“».

Это уникальный по собранному материалу поэтический рассказ о городе, воспетом поэтами и писателями, жившими здесь в течение двух веков.В предлагаемой книге Н. П. Анциферова ставится задача, воплощающая такую идею изучения города, как познание его души, его лирика, восстановление его образа, как реальной собирательной личности.Входит в состав сборника «Непостижимый город…», который был задуман ученицей и близким другом Анциферова Ольгой Борисовной Враской (1905–1985), предложившей план книги Лениздату в начале 1980-х гг.

В этом этюде охарактеризованы пути, ведущие к постижению образа города в передаче великого художника слова. Этим определен и подход к теме: от города к литературному памятнику. Здесь не должно искать литературной характеристики. Здесь отмечены следы города в творчестве писателя. Для исследования литературы, как искусства, этюд может представить интерес лишь, как материал для вопросов психологии творчества. Эта книжка предназначена для тех, кто обладает сильно развитым топографическим чувством и знает власть местности над нашим духом.Работа возникла из докладов, прочтенных в Петербургском Экскурсионном Институте.[1].

В настоящей книге, возвращаясь к теме отражения мифа в «Медном всаднике», исследователь стремится выявить источники легенд о строителе города и проследить процесс мифологизации исторической реальности.Петербургский миф — культурологич. термин, обозначающий совокупность преданий и легенд, связанных с возникновением СПб и образом города в сознании людей и в иск-ве. Петербургский миф тесно связан с историей СПб и его ролью в истории страны. Реальные события возникновения СПб обрастали мифологич. образами уже в сознании современников.

Николай Павлович Анциферов (1889–1958) — выдающийся историк и литературовед, автор классических работ по истории Петербурга. До выхода этого издания эпистолярное наследие Анциферова не публиковалось. Между тем разнообразие его адресатов и широкий круг знакомых, от Владимира Вернадского до Бориса Эйхенбаума и Марины Юдиной, делают переписку ученого ценным источником знаний о русской культуре XX века. Особый пласт в ней составляет собрание писем, посланных родным и друзьям из ГУЛАГа (1929–1933, 1938–1939), — уникальный человеческий документ эпохи тотальной дегуманизации общества.
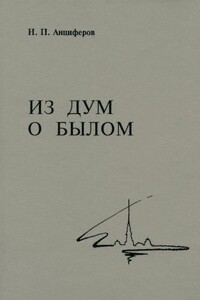
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В новой книге известного слависта, профессора Евгения Костина из Вильнюса исследуются малоизученные стороны эстетики А. С. Пушкина, становление его исторических, философских взглядов, особенности религиозного сознания, своеобразие художественного хронотопа, смысл полемики с П. Я. Чаадаевым об историческом пути России, его место в развитии русской культуры и продолжающееся влияние на жизнь современного российского общества.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.