Первый арест. Возвращение в Бухарест - [163]
— Не надо лгать, Раду. Ты сам в это не веришь…
Он подошел к кровати, растерянно погладил ее влажную и тонкую, как у ребенка, руку.
— Не будем спорить — тебе нужен покой. Хочешь послушать музыку? — Он обрадовался, что напал на эту мысль, и возбужденно продолжал: — Музыка тебя успокоит. Ты ведь так любила музыку…
Он снова начал вертеть ручку регулятора, но музыки нигде не было. Всюду звучали разные голоса, голоса войны, ликующие крики победителей, вопль побежденных, голоса надежды и голоса отчаяния, самоуверенные и твердые, торопливые и вкрадчивые голоса, что-то утверждающие и что-то отрицающие. Голоса сменялись фанфарами, рожками, учащенным, тревожно-напряженным стуком метронома. «Радио Рома!.. Тиз из Лондон колинг… Ахтунг, ахтунг — Берлин!.. Говорит Москва!..» В Москве гремел салют, в Берлине была воздушная тревога. Война шла на земле, война шла в эфире, война шла на всех частотах радиоволн, приемник трещал, он не мог вместить весь этот рев и рык, все эти спорящие, перебивающие и заглушающие друг друга голоса, пока вдруг из шума не выделилась музыка — где-то играла скрипка, тихая и страшно далекая.
— Может быть, это Шопен, — возбужденно сказал Раду, настраивая приемник.
Анка невольно улыбнулась:
— Это Моцарт — концерт ре мажор со скрипкой. Где играют?
— Не знаю. Должно быть, в Америке, в Австралии… где-нибудь, где нет войны.
Скрипка звучала все ближе, вступил оркестр, и голоса снова заполнили комнату, голоса любви, добра, надежды, шепот ветра, рокот прибоя, радостные крики птиц над водами. Слушая музыку, Анка вдруг снова посмотрела на висевшую над кроватью картину. Краски тоже музыкальны, подумала она, вот эти оранжевые, голубые и пурпурные фигуры на холсте, от них словно тоже льется мелодия, не такая нежная, как та, что в приемнике, там скрипки звучат слишком красиво, в этих фигурах другое созвучие, беспокойное, опьяняющее. Тут Анка услышала заключительные аккорды концерта Моцарта — ликующие литавры, тихий шелест смычков, звуковая живопись, повествующая о радости и ожидании счастья.
— Тебе не понравился концерт? — спросил Раду. Он смотрел на Анку и видел, что выражение ее лица не изменилось. — Тебе не понравилось? Ты ведь любила музыку…
«Нет, — думала она, — музыка звучала фальшиво, она меня больше не волнует, она мне почти так же неприятна, как вот этот горячий пот на лице. Но Раду прав: я любила музыку, — неужели я больше ее не люблю?
Я любила скрипку с оркестром, и фортепьяно, и контрабас, и английский рожок, и простой деревенский цимбал; я любила концертный зал еще до того, как в нем звучала музыка, любила предчувствие музыки, любила слушать, как музыканты настраивают инструменты, как среди шума и говора рассаживающейся по своим местам публики прорывается ленивое пиликание скрипок, сердитое квакание тромбона, короткий радостный возглас флейты; я любила концертные программы и концертные афиши; даже когда их трепал ветер и поливал дождь на мокрой, грязной стене — я не проходила мимо, всегда останавливалась, читала программу, и все вокруг преображалось, и я любила дождь, слякоть, грохочущие по мостовой автомобили и снующих по тротуару людей. Где эта любовь? Куда все девалось?»
Анка закашлялась, и участливая рука Раду снова приложила платочек к ее мокрому от пота лицу. «Бедный Раду, — подумала она, — он мучается больше меня, я испортила ему всю радость освобождения, я никогда не любила его так, как он меня, а теперь я совсем ничего не чувствую, даже жалости, только слабый отзвук какой-то. Хорошо, что он этого не знает…»
В комнате звучал голос, говоривший по-русски, — это Раду снова настроил приемник на Москву.
— Как ты думаешь — Саша тоже в Красной Армии?
— Саша Вылкован? Ну конечно же… А, черт, как мы об этом раньше не подумали? Если он в армии, он завтра будет здесь.
— Раду!
— Да, Анка.
— Обещай мне…
— Обещаю. Что я должен обещать?
— Если Саша вернется в Бухарест, ты не приведешь его сюда.
— Почему?
— Я не хочу, чтобы он видел, какой я стала. Он помнит меня другой.
— А, чепуха какая! Ты поправишься. Даю тебе слово, что ты поправишься. — Он сделал паузу и тихо спросил: — Если Саша действительно придет, как я смогу ему не сказать?
Она ничего не ответила. Он не поймет, думала она. Он не поймет, что ее не волнуют сейчас воспоминания. За эти пять дней она много раз перебирала их в уме, рассматривала, как фотографии в альбоме — все разные, но как бы окрашенные в один цвет — цвет любви. Главное в них была любовь. Самая радостная любовь была в детстве. Она любила всех, и ее все любили, наградой за любовь была любовь. Потом многое изменилось, но любовь оставалась. И в революционном движении важнее всего для нее была любовь…
Она любила движение. Она полюбила его сразу, как только поняла его цели, и чем дальше, тем сильнее она его любила. Она любила все, что связано с движением. Она любила таинственные для непосвященных слова: явка, контроль, техник; любила партийные клички — в них все было наоборот: блондинка называлась «чернушкой», безусый парень «стариком»; любила пароли с их неожиданными сочетаниями фраз: «Скажите, пожалуйста, как пройти к университету?» — «Извините, но у меня нет спичек», — они вызывали, улыбку, но их надо было произносить с серьезным, каменным лицом; она любила глухие переулки, запущенные скверы, лабиринты грязных дворов с двумя выходами — здесь безопаснее всего было назначить явку; любила тех, с кем она встречалась: юнцов, напускающих на себя важность, когда они говорили об указаниях «сверху», профессиональных революционеров — эти были простые, обыкновенные люди, они никогда не казались важными и таинственными; она любила и «сочувствующих» — этих меценатов движения, с которыми надо было обращаться, как с хрупким дорогим стеклом, в них было столько сомнений, страха, противоречий, а рисковали они не меньше других, иногда даже больше; она любила нелегальную литературу, любила манифесты, напечатанные на папиросной бумаге, газеты величиной с ладонь, любила скромные, ничем не примечательные на вид книжечки — обложка, титульный лист и первая страница из какого-нибудь бульварного романа или учебника, а все остальное — работа Ленина или сборник материалов Коминтерна; она любила заседания ячеек, комитетов, фракций — они начинались с придумывания безобидной причины, почему все присутствующие оказались вместе… Все это было, думала она. Потом был арест Саши, арест Раду, потом настал ее черед. Потом было то, о чем она не хотела вспоминать. Никто этого не знает. И Раду не знает. Может быть, он догадывается?

Илья Давыдович Константиновский (рум. Ilia Constantinovschi, 21 мая 1913, Вилков Измаильского уезда Бессарабской губернии – 1995, Москва) – русский писатель, драматург и переводчик. Илья Константиновский родился в рыбачьем посаде Вилков Измаильского уезда Бессарабской губернии (ныне – Килийский район Одесской области Украины) в 1913 году. В 1936 году окончил юридический факультет Бухарестского университета. Принимал участие в подпольном коммунистическом движении в Румынии. Печататься начал в 1930 году на румынском языке, в 1940 году перешёл на русский язык.
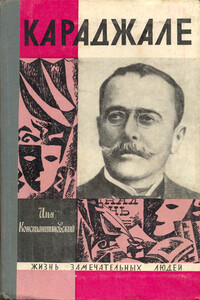
Виднейший представитель критического реализма в румынской литературе, Й.Л.Караджале был трезвым и зорким наблюдателем современного ему общества, тонким аналитиком человеческой души. Создатель целой галереи запоминающихся типов, чрезвычайно требовательный к себе художник, он является непревзойденным в румынской литературе мастером комизма характеров, положений и лексики, а также устного стиля. Диалог его персонажей всегда отличается безупречной правдивостью, достоверностью.Творчество Караджале, полное блеска и свежести, доказало, на протяжении десятилетий, свою жизненность, подтвержденную бесчисленными изданиями его сочинений, их переводом на многие языки и постановкой его пьес за рубежом.Подобно тому, как Эминеску обобщил опыт своих предшественников, подняв румынскую поэзию до вершин бессмертного искусства, Караджале был продолжателем румынских традиций сатирической комедии, подарив ей свои несравненные шедевры.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
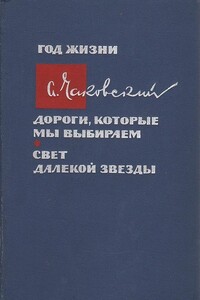
Пафос современности, воспроизведение творческого духа эпохи, острая постановка морально-этических проблем — таковы отличительные черты произведений Александра Чаковского — повести «Год жизни» и романа «Дороги, которые мы выбираем».Автор рассказывает о советских людях, мобилизующих все силы для выполнения исторических решений XX и XXI съездов КПСС.Главный герой произведений — молодой инженер-туннельщик Андрей Арефьев — располагает к себе читателя своей твердостью, принципиальностью, критическим, подчас придирчивым отношением к своим поступкам.

Рассказ о последних днях двух арестантов, приговорённых при царе к смертной казни — грабителя-убийцы и революционера-подпольщика.Журнал «Сибирские огни», №1, 1927 г.
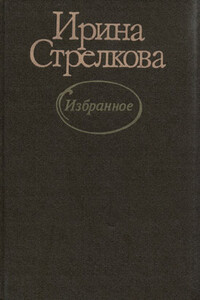
«— Священника привези, прошу! — громче и сердито сказал отец и закрыл глаза. — Поезжай, прошу. Моя последняя воля».

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».
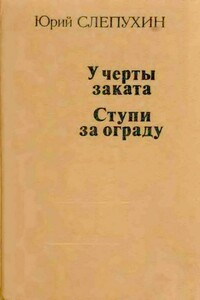
В однотомник ленинградского прозаика Юрия Слепухина вошли два романа. В первом из них писатель раскрывает трагическую судьбу прогрессивного художника, живущего в Аргентине. Вынужденный пойти на сделку с собственной совестью и заняться выполнением заказов на потребу боссов от искусства, он понимает, что ступил на гибельный путь, но понимает это слишком поздно.Во втором романе раскрывается широкая панорама жизни молодой американской интеллигенции середины пятидесятых годов.