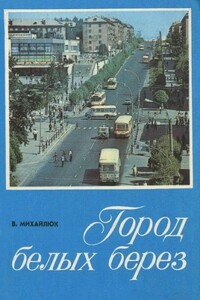Пермская шкатулка - [98]
Урал поразил Бориса Пастернака. «Соликамский один уезд — целая Франция по площади», — пишет он. И далее: «Бог привел меня побывать в шахтах. Это я запомню на всю жизнь»… И далее: «…Перед тобой выра-
261
стает каменная гряда, похожая на цепь бойниц… Влезаешь, ничего еще не зная — на площадку и заглядываешь через край… на дне речка и долина, видная верст на тридцать кругом, поросшая лесом — никому неведомая… Целый мир со своими лугами и борами, и горами по горизонту, и со своим небом…»
Вся эта ширь и высь космической метафорой вошла в творчество Бориса Пастернака, в пространство знаменитого романа и неповторимый строй лирики. Жители нашего края могут ходить и ездить по тем улицам, тропам, дорогам, где бывал сам поэт и куда он поместил своих героев, и если захотят, они найдут гору Дресва у поселка Ивака, дом, где Юрий Живаго снова увидел Лару, овраг, где пели соловьи…
ЧЕРЕМУХОВЫЕ ХОЛОДА
Был утренник. Сводило челюсти, И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня Сверкал за Камою рассвет… Седой молвой, ползущей исстари,
Ночной былиной камыша Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби Кама шла…
Борис Пастернак
Огни заката догорали. Распутицей в бору глухом В далекий хутор на Урале Тащился человек верхом… А на пожарище заката, В далекой прочерни ветвей, Как гулкий колокол набата, Неистовствовал соловей…
В тот майский вечер Борис Леонидович по служебным делам оказался в деревне и возвращался во Всеволодо-Вильву верхом кратчайшей дорогой через лес уже в сумерках. Мерин шел домой бойко, но в низине, курившейся еще молодым, не набравшим силу туманом, Ездруг
насторожился, замотал головой и стал как вкопанный. Не пошел он, когда верховой спешился и решил его повести под уздцы. Конь еще
262
больше заартачился после того как в овраге вдруг защелкал соловей, да так гулко и пронзительно, что казалось, будто он не мог соразмерить громкость своего голоса с окружающим пространством. Вот уж верно: мал соловей, а голос велик — заголосит — лес дрожит! Борис Леонидович заслушался, различая коленца песни: были тут и кликанье, и раскат, и бульканье, и лешева дудка. Однако пение соловья сеяло в душе смутную тревогу — того гляди беда случится. Или это передавалось беспокойство заупрямившейся лошади? Соловей словно просил: «Вер-нись! Вер-нись!»
В 1954 году Борис Леонидович опубликует стихотворение «Весенняя распутица», две строфы из которого взяты эпиграфом, и где соловьиное пение передано так:
Какой беде, какой зазнобе Предназначался этот пыл? В кого ружейной крупной дробью Он по чащобе запустил? Казалось, вот он выйдет лешим С привала беглых каторжан Навстречу конным или пешим Заставам здешних партизан. Земля и небо, лес и поле Ловили этот редкий звук, Размеренные эти доли Безумья, боли, счастья, мук.
К пению уральского соловья Борис Леонидович вернется в романе «Доктор Живаго». Стихотворение «Весенняя распутица», вошедшее в тетрадь стихов главного героя романа, послужило ему этюдом. «В области слова я больше всего люблю прозу, а вот писал больше всего стихи, — говорил Пастернак, предваряя чтение первых глав романа друзьям. — Стихотворение относительно прозы — это то же, что этюд относительно картины».
Да, это стихотворение послужило автору этюдом, и в стихотворении «Белая ночь» из тетради Юрия Живаго поют уральские соловьи. Именно прикамские — ведь дело происходит белой ночью.
…Там, вдали, по дремучим урочищам, Этой ночью весеннею белой,
263
Соловьи славословьем грохочущим Оглашают лесные пределы. Ошалелое щелканье катится, Голос маленькой птички ледащей Пробуждает восторг и сумятицу В глубине очарованной чащи. В те места босоногою странницей Пробирается ночь вдоль забора, И за ней с подоконника тянется След подслушанного разговора. В отголосках беседы услышанной По садам, огороженным тесом, Ветви яблоневые и вишенные Одеваются цветом белесым. И деревья, как призраки, белые Высыпают толпой на дорогу, Точно знаки прощальные делая Белой ночи, видавшей так много.
Теперь послушаем, как поют соловьи в романе. Об этом пишет в своем дневнике доктор Живаго: «Мы приехали в Варыкино раннею весной. Вскоре все зазеленело, особенно в Шутьме, как называется овраг под Микулицынским домом, — черемуха, ольха, орешник. Спустя несколько дней защелкали соловьи.
И опять, точно слушая их в первый раз, я удивился тому, как выделяется этот напев из остальных птичьих посвистов, какой скачок, без постепенного перехода, совершает природа к богатству и исключительности этого щелканья. Сколько разнообразия в смене колен и какая сила отчетливого, далеко разносящегося звука! У Тургенева описаны где-то эти высвисты, дудка лешего, юлиная дробь. Особенно выделялись два оборота. Учащенно-жадное и роскошное «тёх-тёх- тёх», иногда трехдольное, иногда без счета, в ответ на которое заросль, вся в росе, отряхивалась и охорашивалась, вздрагивая, как от щекотки. И другое, распадающееся на два слога, зовущее, проникновенное, умоляющее, похожее на просьбу или увещание: «Оч-нись! Оч-нись! Оч-нись!»
Автор «Доктора Живаго» дважды бывал на Урале: в 1916 году зиму и весну жил в Прикамье, а летом 1932 года находился в командировке под Екатеринбургом. Но в середине лета соловьи не

«Доктор, когда закончится эпидемия коронавируса? — Не знаю, я не интересуюсь политикой». Этот анекдот Юрий Мухин поставил эпиграфом к своей книге. В ней рассказывается о «страшном вирусе» COVID-19, карантине, действиях властей во время «эпидемии». Что на самом деле происходит в мире? Почему коронавирус, менее опасный, чем сезонный грипп, объявлен главной угрозой для человечества? Отчего принимаются беспрецедентные, нарушающие законы меры для борьбы с COVID-19? Наконец, почему сами люди покорно соглашаются на неслыханное ущемление их прав? В книге Ю.

История СССР часто измеряется десятками и сотнями миллионов трагических и насильственных смертей — от голода, репрессий, войн, а также катастрофических издержек социальной и экономической политики советской власти. Но огромное число жертв советского эксперимента окружала еще более необъятная смерть: речь о миллионах и миллионах людей, умерших от старости, болезней и несчастных случаев. Книга историка и антрополога Анны Соколовой представляет собой анализ государственной политики в отношении смерти и погребения, а также причудливых метаморфоз похоронной культуры в крупных городах СССР.

В брошюре представлены ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые советскими и иностранными журналистами при посещении созданной вокруг Чернобыльской АЭС 30-километровой зоны, а также по «прямому проводу», установленному в Отделе информации и международных связей ПО «Комбинат» в г. Чернобыле.
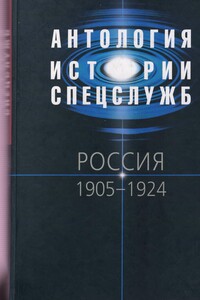
Знатокам и любителям, по-старинному говоря, ревнителям истории отечественных специальных служб предлагается совсем необычная книга. Здесь, под одной обложкой объединены труды трех российских авторов, относящиеся к начальному этапу развития отечественной мысли в области разведки и контрразведки.
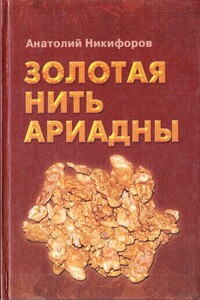
В книге рассказывается о деятельности органов госбезопасности Магаданской области по борьбе с хищением золота. Вторая часть книги посвящена событиям Великой Отечественной войны, в том числе фронтовым страницам истории органов безопасности страны.

Предлагаемая вниманию советского читателя брошюра известного американского историка и публициста Герберта Аптекера, вышедшая в свет в Нью-Йорке в 1954 году, посвящена разоблачению тех представителей американской реакционной историографии, которые выступают под эгидой «Общества истории бизнеса», ведущего атаку на историческую науку с позиций «большого бизнеса», то есть монополистического капитала. В своем боевом разоблачительном памфлете, который издается на русском языке с незначительными сокращениями, Аптекер показывает, как монополии и их историки-«лауреаты» пытаются перекроить историю на свой лад.