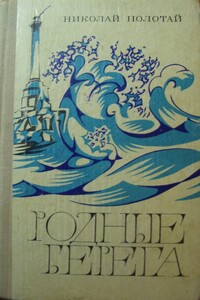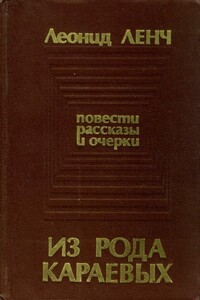Мы замираем у парапета. Вон там налево должна быть Биржа, но ее нет — только смутно обозначены линии портика. В такие часы, когда солнцу не пробиться сквозь туман, город теряет свою материальность.
Я забываю про экскурсию, про американку, и, наверное, точно так же американка забывает про меня. А когда мы вновь возвращаемся к реальности, мы смотрим друг на друга по-новому, как сообщники, объединенные одной тайной.
Я могу иногда плохо провести экскурсию, и то, что я обычно люблю, чем восхищаюсь, что берет меня в плен, может внезапно показаться мне неинтересным. И тогда я рассказываю вяло… Злюсь на себя, а сделать ничего не могу. Но я всегда волнуюсь, попав на Марсово поле. Оно никогда не оставляет меня равнодушной.
Мы подъезжаем к полю со стороны Невского проспекта. Сейчас он полон людей. Беспрерывно течет поток, ручьи затекают в магазины, кафе, в метро. А тогда Невский был безмолвен: хоронили героев. Их несли на своих плечах через весь Невский рабочие Петрограда. Медленно плыли красные, обитые кумачом гробы. Я показываю американке, как заворачивало это шествие по Садовой и направлялось к Марсову полю. Вот здесь их похоронили. Сейчас на могилах лежат обтесанные камни, поддерживавшие когда-то решетку, которая окружала Зимний дворец. Рабочие взяли дворец приступом. А когда похоронили на Марсовом своих товарищей, сделали надгробья из этих камней.
В чаше горит огонь. Он словно оторвался от земли и повис над нею голубым прозрачным флажком.
Мы читаем имена погибших — и нас завораживает даже простой их перечень, как будто незримая армия встает за нашей спиной.
«Не жертвы, герои лежат под этой могилой, не горе, а зависть рождает судьба ваша в сердцах всех благодарных потомков. В красные страшные дни славно вы жили и умирали прекрасно.»
Напряженность и недоверие между нами тает. Может быть, это сделало время, а может, пытливая серьезность старой американки. А может, город, который одинаково действует на меня и на нее.
…Этот дом не занесен ни в какие туристские реестры. Я и сама не знаю, почему я везу сюда американку. Ведь я показала ей все примечательные места. Наконец, если бы она хотела узнать о Пушкине, можно было бы повезти ее на Мойку, в квартиру-музей. Так, наверное, и сделали бы все переводчики нашего «Интуриста». Но мне дороже не тот дом, из которого вынесли великого поэта, а тот, из которого когда-то выбежал губастый, курчавый мальчик. Выбежал и пошел по Фонтанке к Коломне, чтобы затеряться в толпе горожан и бродить среди них до позднего вечера. Его, конечно, не замечали, не знали, кто он такой. И он сам еще не знал о себе ничего. Будущее только смутно предчувствовалось ему, а листок бумаги был брошен в ящик письменного стола вместе с обгрызенными гусиными перьями. На бумаге — начало «Руслана и Людмилы».
— Разве здесь он написал свою поэму?
— Да, здесь. Ставил свечку на подоконник и писал. Вон, может, за этим, а может, за тем окном.
Есть еще одно качество, которое в глазах сухих, лишенных воображения людей, может быть, обернется недостатком: этот дом — старый, давно не ремонтированный, штукатурка облупилась на нем, и стерлись ступени каменной парадной, и потрескался в парадной камин. А кое-где от камина и вовсе отвалились куски мрамора. И, смотря на этот дом, мне легче представить себе, что в нем жил Пушкин, что по этой лестнице ходил, а к этому камину, наверное, протягивал руки.
И есть еще одно достоинство у этого дома: в нем живут люди. Хозяйки выходят на лестничные площадки и переговариваются, перегнувшись через перила. И какая-то девчонка сбегает легко по ступенькам, мы сторонимся, даем ей дорогу, она выбегает на крыльцо, и машет рукой, и кричит кому-то: «Наташка, Наташка…»
Я понимаю Соколову, она будет права, если, узнав о том, что я была здесь с американкой, станет ругать меня. Ведь есть туристы, которые только и видят что штукатурку. Сколько таких туристов я встречала! Но моя американка не такая. Не может быть такой старая американка, читающая в подлиннике Пушкина.
Мы расстаемся в холле гостиницы. Нет простоты и легкости прощания двух малознакомых, ни к чему не обязанных людей. Мы хотели бы встретиться еще. Но американка уезжает, в ее туристской книжке — длинный-длинный маршрут. Она молодо улыбается мне, пожимая руку.
…Когда заканчивается рабочий день, мы выходим с Валей на улицу. Сгустился дым над Ленинградом. Гранитный цоколь гостиницы вспотел и покрылся холодными каплями.
— Ты одна придешь на вечер?
— Одна. А может быть, и нет.
— А с кем же?
— Не знаю.
— Ты решай скорее, а то не будет билетов и столики все займут. Я — налево. Будь здорова.
— До завтра.
На Мойке стоят деревья. Большие, старые, с твердыми морщинистыми стволами. Они стоят здесь давно, наверное со времен Пушкина. И будут стоять еще долго-долго. И каждую весну они будут распускаться. Я не замечу никогда того дня и того часа, когда из их сучковатых веток полезут вдруг упругие почки. Вот сейчас они уже есть, а еще вчера их не было. Может быть, они лезут по ночам…
Зажигают свет в окнах, и он начинает качаться в Мойке. Отражения колеблются, и кажется, будто река движется. Туда и назад. Туда и назад. Мне не хочется идти домой. Мне хочется идти по улице и заглядывать в окна, к людям. А как у них?..