Переписка - [162]
«Вологодские свадьбы» тоже подверглись погрому по причинам вовсе не литературным. Стихи же яшинские (вроде «Спешите делать добрые дела») и вовсе убоги. Хотя Яшин человек не бездарный. Его выучили, к сожалению, на некрасовской поэтике, и эту-то поэтику он и не умел да, наверное, и не хотел преодолеть.
Зачем я так долго о Яшине? А вот зачем. Человек он был неплохой и притом мой земляк, вологжанин. Правда, он не из города, а из глубинки вологодской. Эта-то глубинка плюс некрасовская поэтика и свела на нет поэтические данные. Я же, если и вологжанин, то в той части, степени и форме, в какой Вологда связана с Западом, с большим миром, со столичной борьбой. Ибо есть Вологда Севера и есть Вологда высококультурной русской интеллигенции, эти культурные слои переплетаются с освободительной борьбой до русской революции очень тесно. Но ни Лопатин, ни Бердяев, ни Ремизов, ни Савинков не являются представителями Вологды иконнопровинциальной, северных косторезов и кружевниц-мастериц. Это — душа Вологды, ее традиции в течение многих столетий. Твой рассказ об архиерее Вологодском, который управляет ныне своим реставраторским хозяйством, очень показательный. Как ни наивна эта вологодская гордость — исток ее в душе города.
Вот это и есть то самое главное о Вологде, что я так хотел сказать, радуясь, что ты там побывала.
Целую. Пиши.
В. Шаламов.
И.П. Сиротинская — В. Т. Шаламову
Крым, Судак, 9.7.68
А тут мы ходили! На самом деле здесь, конечно, лучше, чем у этого живописца. Я потихоньку примиряюсь с Крымом, и после того, как все дела обрели ритм и очередность, я увидела, что места здесь неожиданно хороши.
Целую. Жду писем.
И.
В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской
Москва, 13 июля 1968 г.
Дорогая Ира.
Получил сегодня утром твое письмо от 10-VII, вместе с открыткой от 9-го с «Генуэзской крепостью». Почта — учреждение, которое не любит спешить, несмотря на всякую электронику и прочее. Сам пишу четвертое письмо после получения телеграммы с адресом. В письме есть неожиданная тревожная нотка: «Слишком резко все переменилось, я словно проснулась. Вообще, в нашем счастье, в нашей любви слишком много от воображения». Я этого вовсе не считаю, но сердце даже засосало, и я объяснил себе твое состояние тем, что ты еще не получила ни одного моего письма, хотя пора бы почте вести себя с большим сочувствием к нам. Конечно, для меня — не изменилась география, были твои письма с дороги — это все облегчает, и много раз радовался твоей любви. Мне совсем не кажется, что она — от воображения, но, конечно, я могу судить только о себе. Чтобы тебя развлечь, посылаю свое июньское стихотворение:
Горы — хорошая штука, только они должны быть очищены от всяких болот, от багрового мха — словом, быть в Крыму. Я понимаю, почему Грин держался Крыма, уклоняясь от Кавказа.
Берегу себя настолько, что даже советы твои, как ты видишь, записал в стихотворной форме.
Я бы хотел быть с тобой в Крыму, подниматься по той горе, что ты нарисовала. А разве есть в Крыму сосны? Крым есть Крым, и море есть море. Конечно, всякие хозяйственные хлопоты сократят у тебя встречу с морем. И все же.
Здесь — вскоре после твоего отъезда — холод, дождь, северный ветер (хотя, кажется, северный ветер не самый холодный в Москве — (без всяких аллегорий). На улицу не выйдешь без пиджака — одной болоньи мало.
Желаю тебе всякого, всякого добра, отдыха хорошего, желаю тебе Крыма и моря.
Целую. Жду писем.
В.
В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской
Дорогая Ира.
Третий день нет писем твоих, писем-приветов. Почему бы? Прошло уже десять дней после твоего ответа. Я ничего не пишу — резкое похолодание, что ли, мешает. Накупил разных брошюрок — в своем всегдашнем стиле — читаю. Стиль такой чтения я не хвалю — но для меня — это единственная возможность. Чтение мое в жизни было крайне беспорядочным — с огромным чуть не десятилетним периодом полного отлучения от книги. Потом если я приближался к библиотеке, к любому книжному складу, собранию, просто груде разных книг — я читал все подряд — если была возможность, не отбирая лучшего — все было лучшее — и железнодорожный справочник, и Кант. Я читал все, что пойму, усвою, а также все, что не пойму и не усвою — вместе — всегда без всякой системы. Очень быстро. Все, что понравилось, заинтересовало — перечитывал еще раз и еще раз — тоже без намерения запомнить, ничего не уча наизусть. Никогда никаких своих стихов в лагере я запомнить не пытался и не знаю, как можно это делать.
Мне казалось, что стихи легче заучить чужие — ведь в своих — десятки, тысячи вариантов, которые всегда отвлекают — а в чужих выбора, сомнения нет — там один вариант. Есть еще феномен неполного запоминания чужих стихов. Частые ошибки в цитировании (это буквально у всех авторов, которые не пользуются книжной полкой для последней проверки, а надеются на память). Память почти всегда подводит, и вот тут, мне кажется, дело в особенностях психологии автора мемуаров. Беру близкий пример. Паустовский с его цитированием чужих стихов. Просто Паустовский не та фигура, которая может быть включена в исследование психологии творчества, но искать другие имена не хочу. Паустовский хвалит Блока — «Сотри случайные черты. И ты увидишь жизнь прекрасна». У Блока таких слов нет. У Блока: «Сотри случайные черты / И ты увидишь — мир прекрасен». Прекрасен, т. е. может быть предметом прекрасного, т. е. искусства. О жизни тут и речи нет, тут смысл совсем другой. Но уровень Паустовского не позволяет подняться далее «жизни» — примеров искажения цитирования стихов очень много. И тут дело в том, очевидно, что автор ни на какое другое восприятие фразы другого автора не согласен. Ты не сердишься, что я увлекся литературными примерами, как Флобер. Это потому, что я ждал твоего письма сегодня утром, а письмо не пришло.

Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи, — ни начальники, ни подчиненные. Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть…

«Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного трапа, настланную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою дорожку…».

«Очерки преступного мира» Варлама Шаламова - страшное и беспристрастное свидетельство нравов и обычаев советских исправительно-трудовых лагерей, опутавших страну в середине прошлого века. Шаламов, проведший в ссылках и лагерях почти двадцать лет, писал: «...лагерь - отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку - ни начальнику, ни арестанту - не надо его видеть. Но уж если ты его видел - надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Со своей стороны, я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».

Это — подробности лагерного ада глазами того, кто там был.Это — неопровержимая правда настоящего таланта.Правда ошеломляющая и обжигающая.Правда, которая будит нашу совесть, заставляет переосмыслить наше прошлое и задуматься о настоящем.

Варлама Шаламова справедливо называют большим художником, автором глубокой психологической и философской прозы.Написанное Шаламовым — это страшный документ эпохи, беспощадная правда о пройденных им кругах ада.Все самое ценное из прозаического и поэтичнского наследия писателя составитель постарался включить в эту книгу.

В книге впервые публикуются письма российского консула И. М. Лекса выдающемуся дипломату и общественному деятелю Н. П. Игнатьеву. Письма охватывают период 1863–1879 гг., когда Лекс служил генеральным консулом в Молдавии, а затем в Египте. В его письмах нашла отражение политическая и общественная жизнь формирующегося румынского государства, состояние Египта при хедиве Исмаиле, состояние дел в Александрийском Патриархате. Издание снабжено подробными комментариями, вступительной статьей и именным указателем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
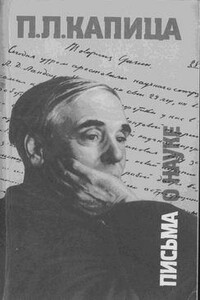
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
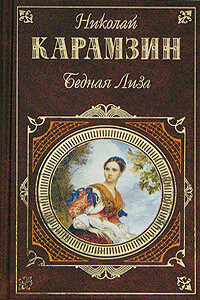
Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) – писатель, историк и просветитель, создатель одного из наиболее значительных трудов в российской историографии – «История государства Российского» основоположник русского сентиментализма.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
