Переписка - [147]
Мне кажется, что героическое было именно в том, что, имея большие возможности, Фрида Абрамовна считала своим нравственным долгом пользоваться этими возможностями, не уклоняясь, не сомневаясь. Нравственная сторона дела здесь очень важна. Моральный уровень очень высок, очень. Я не знаю «Учителя», повести, над которой работала Фрида Абрамовна. Но «Блокнот депутата», запись дела Бродского — литературные документы большой силы, обличающие именно писателя, а не журналиста.
В деле Бродского Ф. В. выступила крупным писателем, вечным защитником и смелым обвинителем всей тупости и черноты, которые несет наше время; эта запись, этот обвинительный документ — значительное писательское достижение. Не менее язык, и впечатлительность, и ясность также обличают Ф. В. как писателя, а не как журналиста. «Писатели — судьи» времени, а журналисты — подручные. Это не только разные уровни мастерства, видения и так далее. Это — разные миры, как ни обманчива кажущаяся близость их друг от друга.
И здесь Фрида Абрамовна выказала себя не подручным, а строгим судьей. Вот о чем я думал на гражданской панихиде и на кладбище. Фрида Абрамовна была человеком непосредственной отдачи — чтение рассказа могло вызвать слезы. Е.М. Голышева[321] сказала мне, что последней книгой, которую читала Фрида Абрамовна, были мои «Колымские рассказы».[322] Рассказы мои вряд ли были полезным чтением для больной. Но мне хорошо думать о том, что сказала Е.М., — и чувствовать себя связанным с Фридой Абрамовной лично — и навеки.
Н.Я. Мандельштам — В. Т. Шаламову
2 сентября 1965 г.
Дорогой Варлам Тихонович!
Я еще не кричу «сентенция», но период зависти уже прошел. Что может быть общего между моими предполагаемыми Черемушками и Борисовым Переделкином. К тому же я не пишу стихов, и нет рифмы у меня, чтобы обеспечить мне «талон на месте у колонн». А еще Ося хорошо обеспечил меня от внешнего (вдовьего) успеха. Он заранее принял меры, чтобы ни «вечеров памяти», ни знаменательных дат у него не было. Вы напрасно поэтому беспокоились, что мне бросится молоко в голову, и я зашуршу вдовьими ризами. Единственное, что я знаю, это — что стишки хороши. Но когда их хвалят потусторонние хвалители, я заболеваю от их глупости. А. А. не выдержала старости, а не славы, и при этом стишки писала она.
Рассказ[323] по каждой детали, по каждому слову — поразительный. Это точность, в миллион раз более точная, чем любая математическая формула. Точность эта создает неистовой глубины музыку понятий и смыслов, которая звучит во славу жизни. Ваш труд углубляется и уходит с поверхности жизни в самые ее глубины. Передайте Эмме Герштейн, если вы ее увидите, что вы только подошли к теме:[324] оглядев наружные слои, вы пошли вглубь — в сущность жизни, которую нельзя убить.
В этом рассказе присутствует более, чем где-либо, ваш отец, потому что все — сила и правда — должно быть от него, от детства, от дома.
Дураки Оттены что-то пищали, когда мы у них были, что ко мне ходят «поклонники». А я подумала, что и перед вами, и перед Володей Вейсбергом,[325] с которыми я пришла к ним, я всегда буду стоять на задних лапах, потому что вы оба — он в живописи, а вы в слове и мысли — достигли тех глубин, куда я могу проникнуть только вслед за вами, когда вы лучиком освещаете мне путь.
Я горжусь всем, что вы делаете, особенно последними рассказами, особенно тем, который я уже почти знаю наизусть.
Сентенция!
Н. Мандельштам.
1) По-моему, это лучшая проза в России за многие и многие годы. Читая в первый раз, я так следила за фактами, что не в достаточной мере оценила глубочайшую внутреннюю музыку целого. А может, и вообще лучшая проза двадцатого века.
2) «Дело юристов» я как будто читала более детальный вариант, и он был сильнее.[326]
3) Есть два-три рассказа, которые не доведены до полной силы: вышивальщица,[327] например. Есть небрежности.
4) «Целое» книги не готово — надо убрать повторы (стланик, «человек сильнее лошади» и др.), сохранив в обоих рассказах самую тему, но дав ей чуть разное развитие (чтобы сделать не повтором, а двойным, как в сонате, развитием[328]).
5) Среди удивительного блеска отступлений есть одно, нуждающееся в легком развитии: это о современной прозе. Оно бьет в точку. В самую точку.
Конец «Тифозного карантина»?[329]
В.Т. Шаламов — Н.Я. Мандельштам
сентябрь 1965 г.
Дорогая Надежда Яковлевна, я прошу прощения за то, что столь неосторожно коснулся Черемушек. Для меня это чуть ли не главный вопрос жизни, принципиальности неизмеримой.
Когда-то Пастернак просто ошеломил меня, когда вдруг оказалось, что такое хорошее и согласное вдруг обернулось малодушием, трусостью, недостаточностью не только поэта… Вдруг все было передано в руки какой-то с… Ивинской[330] (при ее личном праве и правоте). Это одна из больных моих нравственных травм. Все поставить на место, потому что не мне повезло при встрече с Пастернаком, а Пастернаку при встрече со мной, только он этого не понял, опять-таки по малодушию, по суетности своей.
Этот вопрос до такой степени для меня важен и болезнен. Наше знакомство прервалось при обстоятельствах, не делающих чести Пастернаку. Его звонки на Хорошевское шоссе ничего не могли изменить. Пастернак предлагал мне повидаться у Ивинской. Я отказывался это сделать. Я не разделял и не одобрял его «опрощения», не считал, что проза «Доктора Живаго» — лучшая его проза.

Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи, — ни начальники, ни подчиненные. Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть…

«Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного трапа, настланную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою дорожку…».

«Очерки преступного мира» Варлама Шаламова - страшное и беспристрастное свидетельство нравов и обычаев советских исправительно-трудовых лагерей, опутавших страну в середине прошлого века. Шаламов, проведший в ссылках и лагерях почти двадцать лет, писал: «...лагерь - отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку - ни начальнику, ни арестанту - не надо его видеть. Но уж если ты его видел - надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Со своей стороны, я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».

Это — подробности лагерного ада глазами того, кто там был.Это — неопровержимая правда настоящего таланта.Правда ошеломляющая и обжигающая.Правда, которая будит нашу совесть, заставляет переосмыслить наше прошлое и задуматься о настоящем.

Варлама Шаламова справедливо называют большим художником, автором глубокой психологической и философской прозы.Написанное Шаламовым — это страшный документ эпохи, беспощадная правда о пройденных им кругах ада.Все самое ценное из прозаического и поэтичнского наследия писателя составитель постарался включить в эту книгу.

В книге приведены уникальные, ранее не публиковавшиеся материалы, в которых представлена культурная среда начала и середины XX века. В письмах и дневниках содержится рассказ о событиях в жизни Марины Цветаевой, Бориса Бессарабова, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Даниила Андреева, Бориса Зайцева, Константина Бальмонта, Льва Шестова, Павла Флоренского, Владимира Фаворского, Аллы Тарасовой, Игоря Ильинского и многих-многих других представителей русской интеллигенции.Дан развернутый комментарий, приведены редкие, впервые публикующиеся фотоматериалы.
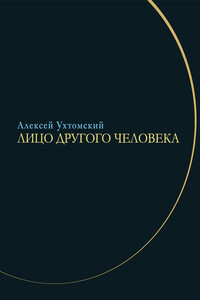
Алексей Алексеевич Ухтомский (1875–1942), физиолог с мировым именем, обладал энциклопедическими знаниями в области философии, богословия, литературы и оставил свой след в «потаенном мыслительстве» России 1920-х-1930-х годов. Князь по происхождению, человек глубоко религиозный, он пользовался неслучайным авторитетом среди старообрядцев в Единоверческой церкви. Кардинальные нравственные идеи А. А. Ухтомского, не востребованные XX веком, не восприняты в должной мере и сегодня. Настоящий сборник, включающий дневниковые записи А. А. Ухтомского и его переписку, призван обратить внимание вдумчивого читателя на эту оригинальную интеллектуальную прозу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В десятом томе Полного собрания сочинений публикуются письма Гоголя 1820–1835 годов.http://ruslit.traumlibrary.net.

«Письма» содержат личную переписку Ф. М.Достоевского с друзьями, знакомыми, родственниками за период с 1870 по 1875 годы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
