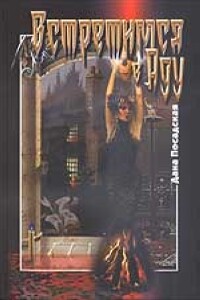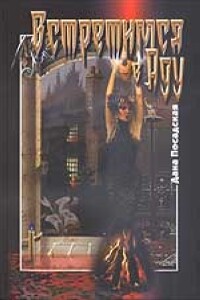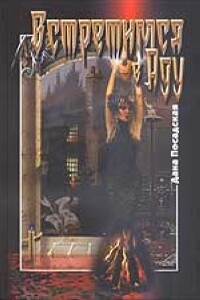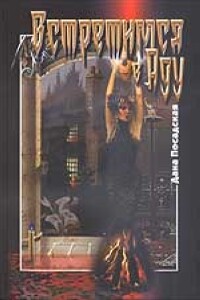Анна привыкла скрывать свои чувства. Она мужественно делала всё, чтобы хоть внешне быть хорошей приёмной матерью. Брала девочку на руки, ничем не выказывая брезгливости; с приторной улыбкой восклицала: «Ах, моя детка!», и даже целовала в золотисто-абрикосовую щёку. Но эти вымученные нежности были, конечно, лишь бледной тенью того, что вытворяла с ребёнком Джиневра.
Но чем старше становилась малышка, тем меньше Анна её касалась. Обе они отнюдь не стремились общаться с друг другом. Девочка Анну не то, что не любила, а просто не замечала. Когда она начала говорить (очень рано), Джиневра, показав рукой на Анну, сказала: «А это мама». Та повторила послушно: «Мама», но с тех пор ни разу этого слова не произносила. То ли дело «Джинни» (Джиневра) или «Папа»!
До недавнего времени у девочки была ещё и няня, хотя всем в детской заправляла Джиневра. Няня была не против, ибо получала неплохое жалование только за то, что уютно дремала, примостившись в уголке с каким-то рукоделием; а иногда и с рюмочкой сладкой наливки. Но с месяц назад она вдруг ушла, хлопнув дверью и заявив, что ноги её больше не будет в их доме даже за всё золото мира. На все вопросы она твердила одно, понижая таинственно голос и строя весьма многозначительные мины: ребёнок это дурной, не человеческое это дитя; давно она это подозревала, а теперь вот убедилась, как — не скажет, а только видеть она больше не может это отродье поганое, тьфу! Далее шли невнятные охи, молитвы и угрозы.
Эдгар лишь пожал плечами и сказал, что няня, как видно, не в своём уме. Джиневра закричала, что если бы няня не ушла сама, она бы лично спустила её с крыльца за такие слова о бесценной крошке. И только Анна — про себя, как всегда, но весьма горячо поддержала почтенную мудрую женщину. В самом деле, откуда им знать, что это за ребёнок, подобранный на перекрёстке трёх дорог? Она сама в его присутствии всегда ощущала… нет, не страх, но что-то такое, что заставляло её содрогаться. Особенно когда малышка смотрела на неё — более чем равнодушно — своими хрустальными зелёными глазами. Анне в такие минуты казалось, что та то ли смеётся над ней, то ли читает её, Анны, мысли.
Снова и снова она размышляла об этом, с каждым разом всё сильнее ощущая ярость, — ярость и бессилие, — лёжа в вечном халате на узкой кушетке в своей одинокой безликой комнате. Она так лежала целыми днями, распустив по плечам жидкие волосы, полуприкрыв скорбные очи и обставив себя батареей флаконов с ароматической солью. Она ощущала себя безнадёжно больной и всеми покинутой. И никому на всём белом свете не было дела до этих страданий. Чаще всего к ней никто не заглядывал.
Вот и в этот день, Анна лежала одна, как обычно. Впрочем, нет, не как обычно. Этот день был воистину из ряда вон выходящим: ни мужа, ни кузины не было дома: Джиневра каталась в парке верхом (кроме ребёнка её, кажется, интересовали только лошади), Эдгар уехал по делам. По каким — Анна не знала, да и знать не хотела.
Осознав, что кроме неё и ребёнка в доме осталась только прислуга, Анна вдруг ощутила неясное желание. Ей захотелось увидеть девочку. В конце концов, чего ей бояться? Это всего лишь двухлетний ребёнок. И рядом нет ни «папы», ни «Джинни». Сейчас она, Анна, сильнее!
Она резко вскочила, тут же забыв о своём слабом здоровье, и вышла из комнаты.
Она подошла к двери детской — и замерла. У неё было диковинное чувство — как будто … как будто она замышляет что-то дурное. Что за чушь! — сердито одёрнула она себя. Я всего лишь хочу посмотреть на … на своего ребёнка. Своего?! Ей стало смешно; она рассмеялась, и этот визгливый смех не понравился ей самой.
Детская была, разумеется, лучшей комнатой в доме. Огромное окно — от потолка и до пола, — всё искрилось, как калейдоскоп, от солнечного света и жгуче зелёной листвы из сада, шелестящей волной бившейся в стекло. Раньше… до той ночи, эта комната была будуаром Анны. Раньше…
Девочка сидела на ковре и разглядывала книжку с картинками. Когда Анна зашла, она подняла головку и скользнула по ней безразличным взглядом.
Анна смотрела на неё с каким-то нервным любопытством, словно видела в первый раз. Хрупкое, почти прозрачное тельце — можно подумать, её плохо кормят! Локти и колени в меру исцарапаны, как и положено здоровому ребёнку. Густые рыжие волосы — совсем как у Джиневры! — глаза раскосые и с неожиданно пушистыми ресницами. Уши… какие у неё всё-таки странные уши…
Анне захотелось окликнуть ребёнка — но как? Окрестили девочку Анной, в её честь (смешно!), но это, конечно, не прижилось. У Джиневры и Эдгара было всегда наготове несметное количество ласкательных имён и шутливых прозвищ; а вот что делать ей?
— Эй, ты! — неуверенно произнесла она.
Девочка даже не шелохнулась.
— Эй, ты! — повторила Анна уже резче.
Никакой реакции.
Анну вдруг охватило бешенство. Вся та обида, та злость, которые долгие годы копились внутри, загнивая, как мертвечина в болоте, вдруг пробудились. Её, никогда не пившую вина, опьянило сознание того, что нет ни Джиневры, ни мужа, и этот ребёнок — её проклятие — целиком в её власти. Она может сделать с ней что угодно… что хочет… и никто не узнает… что хочет!