Переход - [5]
Сразу же взваливать палатку на плечо не хочется. Ну просто совсем. К палатке сверху принайтованы большой топор, пила--ножовка и пехотинская лопатка. Вся эта хрень, вместе взятая, весит под двадцать ``кэ гэ''. Меня посещает благая мысль перекурить, тем более что Дима и Леня налегке уже резво приближаются к нам. Курю.
Дима лишает Ольгу рюкзака, а Леня --- меня палатки. Ходить без палатки с одним рюкзаком легко и приятно. Как говорить правду. Легко и приятно идем. И вот под нами затон Буруны.
Затон Буруны становится затоном в разлив, а сейчас это озеро практически прямоугольной формы размером 150--200 метров на 1.2 километра, с песчаным дном и с чистой из--за большого количества ключей водой. Мы стоим посередине его длинной стороны на четырехметровой гряде барханов, почти вплотную подступающей к озеру. На противоположной стороне также вплотную подступает достаточно густой лес, в котором по берегу растут старые вербы, тополя и осокари. В сильный ветер из--за большой протяженности озера на нем успевает разгуляться достаточно высокая волна с белыми барашками, чем и вызвано название озера.
Спускаемся на узкую прибрежную полосу между барханами и опять же узкой полоской камыша. Ее ширина аккурат такая, чтобы поместилась автомобильная колея, по которой мы и начинаем движение вдоль озера. Постепенно эта полоса становится шире, на ней умещаются еще редкие ивы, карагачи и кусты боярышника. Замечаю удобный подход к воде и объявляю чайный привал.
Уговаривать никого не приходится. Солнышко уже начинает припекать, и с недосыпа всех слегка разморило. Неутомимый Леня начинает стаскивать дрова, а я развожу костер прямо на колее и начинаю операцию по выкапыванию из рюкзака чайника. Народ стелит коврики параллельно колее, справа--слева от костра, и потихоньку начинает реализовывать извечную идею: ``А не съесть ли нам...'' и т.д. Отправляюсь набирать воду в чайник. Мн-да! Выход к воде казался удобным только издали. Балансируя на скользком бревне, пробираюсь как можно дальше, но все равно черпаю чайником между камышей. Разогнав, предварительно, насколько смог, тину и водоросли. Выбираюсь на сухой берег и критически разглядываю результаты. Еще раз мн--да! Воровато оглянувшись на народ у костра, выуживаю рукой из чайника и выкидываю трех улиток, особо крупные водоросли и дохлую гидру. Мелкие дафнии и циклопы перекипят. Наваристее будет. Как говаривал мой двоюродный брат Вася: ``Турысты усе съедят!'' Скромно потупив глаза, задвигаю чайник на угли и говорю давно уже традиционную фразу: ``Мужики! Обложите чайник!'' Мужики обкладывают. Ветками. Чайник. Знали бы они, что в чайнике, обложили бы меня. И не ветками.
Разморило уже конкретно. Язык ворочается с трудом. Паша с полузакрытыми глазами, покачиваясь и поклевывая носом, сидит на коврике. Ольга сердобольно предлагает ему лечь и немного поспать. Сделав титаническое усилие, Паша отвечает: ``Я хочу, ну это...'' Пауза. И, вяло махнув рукой в сторону чайника: ``Пш--ш--ш...'' Смеемся так, что временно просыпаемся. С этих пор любой процесс кипения у нас будет называться ``пш--ш--ш...''
К сидящему рядом с Пашей Диме начинает назойливо приставать мелкий шмель. Дима спрашивает, кто это. ``Гунда,'' --- отвечаю я и рассказываю, кто она такая. Гунда это земляная оса, живущая в глубоких норах под землей. Ее укус чаще всего смертелен для человека. Есть поверие, что если при земляных работах выкопали гунду, то все эти работы нужно бросать и убираться с этого места --- все, гунда! Заканчиваю успокоительным сообщением, что гунда водится только в Средней Азии, а это просто безобидный мелкий шмель. Рассказ производит впечатление, и Дима косится на шмеля подозрительно и недоверчиво.
Наконец, свершается долгожданное ``пш--ш--ш...'' Заварив чай и дав ему настояться, совершаю чайную церемонию. Она у нас совсем не по японским правилам --- все кружки выстраиваются в ряд, наполняются из чайника непрерывной струей, затем ``разводящий'' поочередно у всех спрашивает: ``Сколько?'' --- насыпает соответствующее количество сахара, размешивает и, наконец, разносит всем кружки.
Ольга и Леня начинают жарить сало на прутиках. Паша спорит с Олей по поводу правильной технологии приготовления этого продукта. В конце концов, не прийдя к консенсусу, встает с коврика, чтобы сделать по--своему. Это был очень опрометчивый поступок, поскольку Дима тут же растянулся во весь коврик и уснул. Его перестала волновать даже гунда.
Потихоньку насыщаемся. Чайник опустел мгновенно, и я отправляюсь за второй порцией инфузорий, лямблий и прочих бурцефалий. С тем же результатом. Когда возвращаюсь, Дима спит на коврике с одной стороны костра, Леня --с другой, а Паша угнездился спиной на тонком бревне поперек дороги и тоже пытается уснуть. В это время Леня всхрапывает, и Паша вскидывается с обращенным к нам с Ольгой вопросом: ``Что он сказал?'' К нашему стыду, перевести мы не смогли...
От нечего делать и желания избавиться от выпитого чая (прибрежная полоса просматривается довольно далеко, а я человек ленивый) взбираюсь на бархан, возвышающийся над местом стоянки. Красота необыкновенная! Виден практически весь затон, в другую сторону, сколько видно глазу, светятся на солнце желтые верхушки барханов, а высоко в небе, ясном и безоблачном, парят коршуны. В затоне плещет крупная рыба. Из под ног шустро разбегаются мелкие варанчики и ящерицы. Более всего действует на воображение резкий контраст между гладью затона и буйной зеленью вокруг него с одной стороны, и знойной пустыней с громадными тушами барханов с другой.
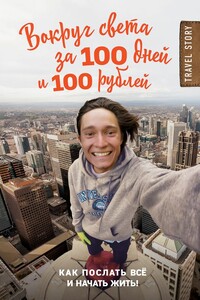
Непридуманная история о том, как отправиться в кругосветное путешествие, имея в кармане всего 100 рублей, и познать не только мир, но и самого себя. Спасти жизнь человеку, чуть было не сорвавшемуся с обрыва. Переночевать в палатке прямо на Великой Китайской стене. Чудом избежать аварии в кабине дальнобойщика. Взобраться на высочайший водопад Северной Америки. Провести 36 ночей без крыши над головой. Оставив в кармане одну купюру в 100 рублей, он начал самую большую авантюру в своей жизни. За три с небольшим месяца Дмитрий проехал через Россию, Казахстан, Монголию, Китай, США, Мексику, побывал в Бельгии и Франции — преодолел около 43 000 километров.
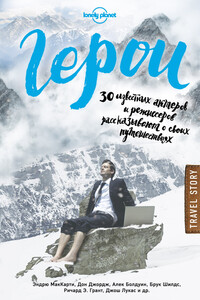
Основная идея этого сборника проста: актеры выступали рассказчиками еще во времена древних греков. И с тех пор как Голливуд вышел за пределы павильонных съемок, эти рассказчики посещали отдаленные уголки мира, чтобы потом поведать нам свои истории. Это «типичные представители Голливуда» – настоящие бродяги, чего от них требует работа и зачастую характер. Актеры всегда путешествуют, широко открыв глаза и навострив уши (иногда неосознанно, но чаще осмысленно). Они высматривают образы, особенности поведения или интонации речи, которые можно запомнить, сохранить на будущее, чтобы в нужное время использовать в роли.
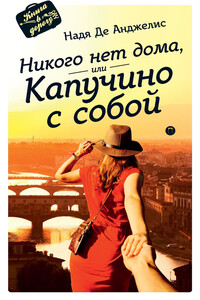
Новая книга автора «Чувства капучино» Нади Де Анджелис – это учебник по путешествиям, настольная книга каждого, кто собирается в дорогу или только мечтает об этом.
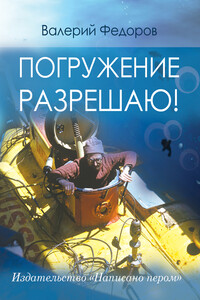
Книга В. В. Федорова рассказывает о подводных исследованиях в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах, которые проводились с применением отечественных обитаемых аппаратов «Тинро-2», «Север-2» и «Омар». Более чем в ста погружениях автор принимал личное участие, вел визуальные наблюдения на глубинах до 1500 м. Читатель узнает о том, какие диковинные рыбы, крабы, моллюски, кишечнополостные, губки и другие животные обитают в глубинах морей и океанов. Некоторых из этих животных удалось сфотографировать во время погружений, и их можно видеть в естественной среде обитания.

Неизвестно, узнал бы мир эту путешественницу, если бы не любовь. Они хотели снарядить караван и поплыть по горячим барханам аравийских пустынь. Этим мечтам не суждено было сбыться. Возлюбленный умер, а Гертруда Белл отправилась в опасное путешествие одна. Она обогнула мир, исколесила Европу и Азию, но сердцем осталась верна пустыне. Смелая европейская женщина вызывала неподдельный интерес у сильных мира сего. Британское правительство предложило ей сотрудничество на благо интересов Англии. Когда решалась судьба Египта, на международной конференции присутствовали все ведущие политики мира.
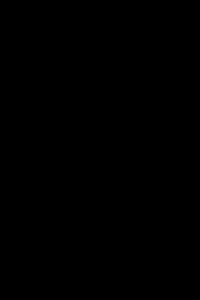
Рассказ был опубликован во втором выпуске художественно-географического сборника «На суше и на море» (1961).