Перечитывая Чехова - [3]
Дело не только в таланте, да и трудно установить размеры способностей, отпущенных человеку. Различные энциклопедии пытаются это делать, деля авторов на категории: «великий», «выдающийся», «крупный» и просто «писатель»; но звания не бесспорны, да и не долговечны; посмотришь, и в новом издании «писатель» стал «выдающимся», а «выдающийся» разжалован в «крупного».
Любовь к писателям прошлого зависит прежде всего от их близости к душевному миру читателя. Когда художественное произведение воспринимается только как картина далекой эпохи, любовь уступает место холодному признанию наблюдательности, общественных заслуг, таланта, мастерства.
Какое нам дело до интриг двора, где терзался Гамлет? Неужели сотни миллионов читают «Красное и черное» для того, чтобы узнать как выглядело французское общество конца двадцатых годов XIX века? Кто посмеет утверждать, что «Дон–Кихот» много веков волнует человечество, потому что представляет собой сатиру на рыцарские романы, которыми увлекались испанцы в XVI веке? Мне скажут, что я ломлюсь в открытую дверь, что сила великих произведений искусства в том, что они правдиво показывают прошлое и вместе с тем радуют людей любой эпохи красотой описаний, мастерским построением, гармонией. А на мой взгляд, все это не объяснение, но произвольная выдача лестных эпитетов. Если произведение искусства, каким бы гениальным оно ни было, по своей идее, по раскрытию характеров, по вложенной в него страсти расходится с идеями, с природой, с чувствами последующих поколений, то оно теряет притягательную силу. Корнель и Расин потрясали людей добрых двести лет, но для романтиков XIX столетия стали непонятными, напыщенными, лживыми. Готическая архитектура четыреста лет поносилась всеми просвещенными умами. Болонская школа живописи представлялась людям XVII века вершиной искусства, а людям XX века кажется ремесленничеством и эклектизмом.
Писатель живет интересами народа, его терзаниями и надеждами. Стремление уйти от современности, отвернуться от живых людей, сосредоточиться на «вечных темах», очистив их от злобы дня, не раз приводило автора к художественным поражениям. В те годы, когда Чехов писал повести о «маленьких людях», писатель Мережковский (Чехов как–то обозвал его «сытейшим») пытался решать «вечные вопросы». Кого сейчас может взволновать его ходульная трилогия «Христос и Антихрист»? Чехов сказал про талантливого писателя Леонида Андреева: «…нет простоты, и талант его напоминает пение искусственного соловья». Вскоре после смерти Чехова Андреев написал пьесу «Жизнь человека», которую поставил Художественный театр. Андреев хотел изобразить жизнь некоего синтетического человека, но вышел у него заводной манекен, и никому теперь не придет в голову поставить ‘«Жизнь человека» — ни у нас, ни в Париже, ни в Австралии. Современники Чехова, гнавшиеся за «вечным», рождали однодневки. Тысячами нитей Чехов был связан со своей эпохой. Он не любил фантазировать и, даже мечтая, оставался на родной земле. Но, изображая своих современников, он раскрыл в них то, что понятно и нам. Разговоры о пользе земства, о роли благотворительности, о крахе толстовства устарели, но персонажи, которые вели эти разговоры, живы — это не только выразители различных общественных настроений, это также люди, с добродетелями и пороками, с надеждами, с заблуждениями, с тоской. В 1939 году французский писатель Жан-Ришар Блок был потрясен, увидев на парижской сцене «Чайку»: «Как похожи эти дореволюционные русские, показанные Чеховым в рассказах и пьесах, на многих героев Гийу, Мальро, Мориака, Бернаноса, Низана, Арагона…» Ему тогда казалось, что вта близость, современность Чехова объясняются родством двух обществ, обреченных историей. В годы войны он был в Советском Союзе, видел на московской сцене пьесы Чехова и задумался над тем, почему они понятны советским юношам: Чехов в его оценках еще более вырос.
Стендаль писал: «Нужно сделать так, чтобы приверженность к определенной позиции не заслонила в человеке страстности. Через пятьдесят лет человек определенных позиций не сможет больше никого растрогать. Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор». Мне кажется, что эти слова точнее всего объясняют жизненность произведений Чехова. История давно вынесла свой приговор и доктору Львову, и «Княгине», и сестре бедной Мисюсь, и презрительному сыну сановника Орлова, и прочим героям Чехова. Нас интересует теперь не то, о чем эти люди спорили, прочитав газету, а то, чем они жили: их любовь, страдания, радости помогают нам понять себя, наших современников.
Записная книжка героя «Чайки» Тригорина весьма напоминает записные книжки Антона Павловича; недавно были изданы полностью записные книжки советского писателя Ильфа, — они сродни записным книжкам Тригорина–Чехова. Я встречал молодых советских актрис; они живут и работают в новых, несравненно лучших условиях, нежели Нина Заречная; им, например, не Приходится, иметь дело с пьяными купцами; но за свою страсть к искусству они тоже заплатили дорогой ценой. Разве трудно молоденькой комсомолке понять порывы Ани или Нади? Разве уж так далек предсмертный цикл «Последняя любовь» Заболоцкого от заключительных слов рассказа «Дама с собачкой»? Разве не встречал каждый из нас докучливого фразера, подобного герою «Соседей» Власичу, который по существу ничего не делает, читает с пафосом понравившуюся ему статью и пишет письмо в редакцию для передачи автору? Разве не приходится нам бороться с «человеком в футляре», хотя, конечно, переменились и школа, и футляры, и многое другое? Конечно, нет у нас больше, к счастью, заложенных имений и тех материальных условий, в которых жил дядя Ваня; но я знаю и родных братьев профессора Серебрякова, к которым вполне применимы чеховские слова «старый сухарь, ученая вобла», и людей, порой идущих на тягчайшие жертвы для того, чтобы поставить на ноги бездушных, бездарных честолюбцев.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
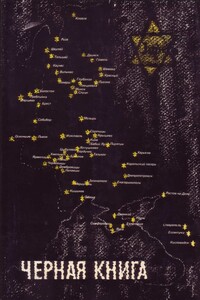
”В конце 1943 года, вместе с В. С. Гроссманом, я начал работать над сборником документов, который мы условно назвали ”Черной Книгой”. Мы решили собрать дневники, частные письма, рассказы случайно уцелевших жертв или свидетелей того поголовного уничтожения евреев, которое гитлеровцы осуществляли на оккупированной территории. К работе мы привлекли писателей Вс. Иванова, Антокольского, Каверина, Сейфуллину, Переца Маркиша, Алигер и других. Мне присылали материалы журналисты, работавшие в армейских и дивизионных газетах, назову здесь некоторых: капитан Петровский (газета ”Конногвардеец”), В.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
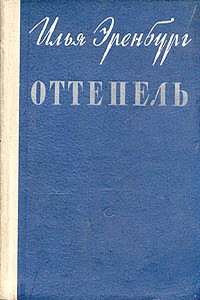
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
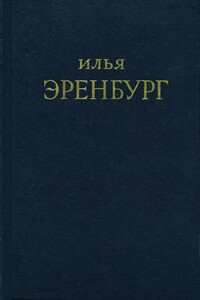
Постановлением Совета Министров Союза ССР от 1 апреля 1948 года ИЛЬЕ ГРИГОРЬЕВИЧУ ЭРЕНБУРГУ присуждена СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ первой степени за роман «Буря».

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».
