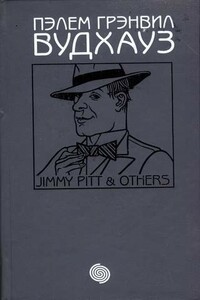Пьер и Люс - [2]
В их семейном кругу, как это случается нередко, было много любви, но не было душевной близости. Да и возможен ли свободный обмен мыслями там, где не пытаются разобраться в своих собственных? Что бы вы ни думали, вы обязаны уважать известные догматы; и если вас стесняют, даже те из них, которые остаются в своем строго очерченному кругу (а именно относящиеся к потустороннему миру), то что же сказать о тех, которые, подобно обязательным гражданским догматам, стремятся вмешиваться в жизнь, всецело руководить ею! Попробуйте-ка позабыть о догмате родины. Новая религия возвращала нас ко временам Ветхого завета. Она уже не довольствовалась благочестивым лепетом и бесхитростными обрядами, в какой-то мере полезными, хотя и смешными, как исповедь, пост по пятницам, воскресный отдых, которые навлекали на себя едкие насмешки наших «философов» в те времена, когда народ был свободен — при королях. Новой религии требовалось все, на меньшее она не соглашалась: весь человек — его плоть, его кровь, его жизнь и помыслы. И прежде всего его кровь. Никогда еще со времен мексиканских ацтеков божество не было столь кровожадным. Было бы глубоко несправедливо утверждать, что верующие от этого не страдали! Они страдали, но все же верили. О люди, мои бедные братья, для вас и страдание — доказательство божественного промысла! Г-н и г-жа Обье страдали, как и другие, и, как и другие, поклонялись божеству. Но нельзя же было требовать такого отречения от сердца, от чувств, от здравого смысла у подростка. Пьеру хотелось по крайней мере разобраться в том, что его угнетало; но он не дерзал высказать ни одного из волновавших его существо сомнений, ибо все они начинались словами: «Но если я в это не верю?» — что уже было кощунством. Нет, он не мог говорить. Они воззрились бы на него с изумлением, со страхом, с негодованием, стыдом и болью. И так как Пьер был в том восприимчивом возрасте, когда нежная, еще не окрепшая оболочка души поддается малейшим дуновениям жизни и, трепеща под ее легкими перстами, обретает законченную форму, то ему же заранее становилось и грустно и неловко. О, до чего сильна была их вера! (Но так ли уж сильна?) И как им удавалось сохранить эту силу? Спросить об этом было нельзя. Но когда среди верующих один не верит, он подобен человеку, лишенному какого-то чувства, быть может и ненужного, но присущего всем остальным; и он, краснея, сторонится других.
Понять тревогу Пьера мог бы только его старший брат. Пьер обожал Филиппа, как часто обожают младшие (ревниво оберегая свой тайну) старших — брата или сестру, случайного знакомого, порой даже мимолетного спутника, уже скрывшегося из виду, всех, кто олицетворяет в их глазах образ того, кем они хотели бы стать и кого они одновременно хотели бы любить. Целомудренный, но уже смутный жар души — предвестник будущих противоборствующих страстей! Старший брат замечал это наивное обожание, и оно льстило ему. В ту пору он старался читать в сердце Пьера и многое осторожно объяснял ему: хотя и более мужественный, чем Пьер, он был человеком того же склада; эти достойнейшие из мужчин, сохраняя в душе женскую мягкость, не стыдятся этого. Но пришла война и оторвала его от привычного труда, от мечтаний науки, от его мечтаний двадцатилетнего юноши, от дружеской близости с младшим братом. В самозабвенном опьянении первых дней войны он бросил все и, подобно большой птице, ринулся в даль, ослепленный героическим и нелепым упованием, что своими когтями и клювом он покончит с войной и восстановит на земле мир. С тех пор эта птица два-три раза возвращалась в гнездо, с каждым разом, увы, все более пощипанной. Он расстался со многими иллюзиями, но говорить об этом ему было тяжело. Ему было стыдно, что он во все это верил. Как глупо, что он не разглядел подлинный лик жизни! Теперь он с ожесточением стремился разбить прежние иллюзии и стоически принять жизнь, какой бы она ни была! Он бичевал не только самого себя; с болезненным раздражением ополчался он на подобные же юношеские иллюзии, которые находил в душе своего брата. Когда, в первый приезд Филиппа, Пьер бросился к нему, сгорая от желания раскрыть перед ним свое замурованное сердце, его сразу же охладило обращение старшего брата, правда по-прежнему ласковое, но с оттенком какой-то горькой иронии. Вопросы, готовые сорваться, замерли на устах Пьера. Филипп, угадывая их, одним небрежным замечанием или взглядом обрывал его на полуслове. После двух-трех попыток Пьер, душевно раненный, ушел в себя. Он не узнавал брата.
Зато Филипп его узнавал. Он узнавал в нем себя самого, каким он был еще недавно и каким никогда уже не будет. И за это он мстил брату. Затем он раскаивался, но не подавал вида и продолжал в том же духе. Оба страдали, и, как это часто бывает в жизни, общее страдание, вместо того чтобы сблизить, отчуждало их. Но в их положении была некоторая разница: Филипп знал, что они страдают вместе, а Пьер думал, что страдает в одиночестве и нет друга, которому он мог бы открыться.
Почему же не обратился он к своим сверстникам, к школьным товарищам? Казалось бы, этим мальчикам следовало теснее сплотиться, искать взаимной поддержки? Но этого не было. Наоборот, обстоятельства роковым образом отдаляли их друг от друга и заставляли держаться небольшими группами и, даже внутри этих групп, замыкаться и обособляться. Самые недалекие из них вслепую, очертя голову бросились в водоворот войны. Но большинство стояло в стороне и не чувствовало никакой связи со старшим поколением; они совсем не разделяли их страстей, надежд и ненависти и смотрели на их фанатические действия, как трезвые смотрят на пьяных. Но что могли они сделать? Некоторые пытались выпускать небольшие политические «ревю», но цензура душила их, не давала им дышать, и они угасали на первых номерах. Вся мыслящая Франция задыхалась от недостатка воздуха, словно под стеклянным колпаком. Самые достойные из этой молодежи, слишком слабые, чтобы бороться, и слишком гордые, чтобы жаловаться, знали, что нож войны уже занесен над ними. Ожидая своей очереди идти на бойню, они издали наблюдали все происходящее и молча, каждый про себя, выносили суждение, полное иронии и презрения. Из духа противоречия жалкому стадному чувству они культивировали своеобразный умственный и художественный эготизм и идеалистический сенсуализм, преследуемое «я» отстаивало свои права, не желая единения с человечеством. Это пресловутое единение представало перед подростками лишь как совместно содеянное и совместно пережитое убийство. Преждевременный опыт развеял их иллюзии; они познали цену этим иллюзиям на примере старших, которые, утратив их, тем не менее платили за них кровью. Было поколеблено даже их доверие к сверстникам, да и вообще к человеку. Вдобавок в те времена доверчивость обходилась дорого. Что ни день — новый донос: беседы в дружеском кругу, угаданные мысли — все получало огласку, а усердие шовинистически нестройного шпика награждалось и поощрялось правительством. И все вместе взятое — уныние, презрение, осторожность, стоическое сознание своего духовного одиночества — не располагало молодых людей к откровенности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Необычный образ Кола, отдаленный во времени от других персонажей повестей и романов Роллана, несет в себе черты, свойственные его далеким правнукам. Роллан сближает Кола с Сильвией в «Очарованной душе», называя ее «внучатой племянницей Кола Брюньона», и даже с Жан-Кристофом («Кола Брюньон-это Жан-Кристоф в галльском и народном духе»). Он говорит, что Кола Брюньон, как и другие его герои — Жан-Кристоф, Клерамбо, Аннета, Марк, — живут и умирают ради счастья всех людей".Сопоставление Кола с персонажами другой эпохи, людьми с богатым духовным миром, действующими в драматических ситуациях нового времени, нужно Роллану для того, чтобы подчеркнуть серьезность замысла произведения, написанного в веселой галльской манере.При создании образа Кола Брюньона Роллан воспользовался сведениями о жизни и характере своего прадеда по отцовской линии — Боньяра.
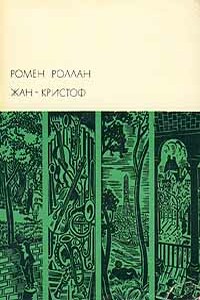
Роман Ромена Роллана «Жан-Кристоф» вобрал в себя политическую и общественную жизнь, развитие культуры, искусства Европы между франко-прусской войной 1870 года и началом первой мировой войны 1914 года.Все десять книг романа объединены образом Жан-Кристофа, героя «с чистыми глазами и сердцем». Жан-Кристоф — герой бетховенского плана, то есть человек такого же духовного героизма, бунтарского духа, врожденного демократизма, что и гениальный немецкий композитор.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
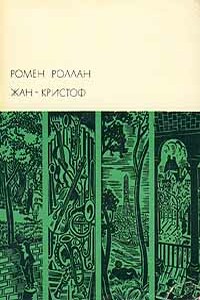
Роман Ромена Роллана «Жан-Кристоф» вобрал в себя политическую и общественную жизнь, развитие культуры, искусства Европы между франко-прусской войной 1870 года и началом первой мировой войны 1914 года.Все десять книг романа объединены образом Жан-Кристофа, героя «с чистыми глазами и сердцем». Жан-Кристоф — герой бетховенского плана, то есть человек такого же духовного героизма, бунтарского духа, врожденного демократизма, что и гениальный немецкий композитор.
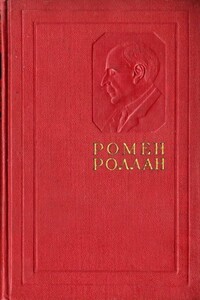
Жизнь тех, о ком мы пытаемся здесь рассказать, почти всегда была непрестанным мученичеством; оттого ли, что трагическая судьба ковала души этих людей на наковальне физических и нравственных страданий, нищеты и недуга; или жизнь их была искалечена, а сердце разрывалось при виде неслыханных страданий и позора, которым подвергались их братья, – каждый день приносил им новое испытание; и если они стали великими своей стойкостью, то ведь они были столь же велики в своих несчастьях.«Толстой – великая русская душа, светоч, воссиявший на земле сто лет назад, – озарил юность моего поколения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
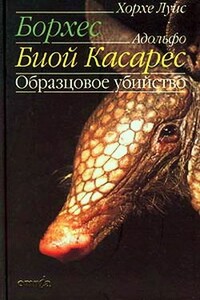
Известные по отдельности как вполне «серьезные» писатели, два великих аргентинца в совместном творчестве отдали щедрую дань юмористическому и пародийному началу. В книгу вошли основные произведения, созданные X.Л.Борхесом и А.Биой Касаресом в соавторстве: рассказы из сборника «Две памятные фантазии» (1946), повесть «Образцовое убийство» (1946) рассказ.
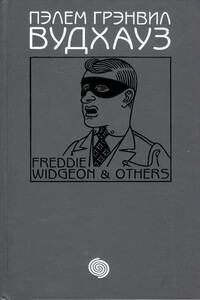
В этой книге — новые идиллии П.Г. Вудхауза, а следовательно — новые персонажи, которые не оставят вас равнодушными.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
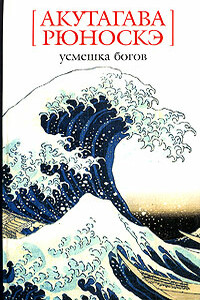
Творчество выдающегося японского писателя Акутагавы Рюноскэ - одно из наиболее ярких и необычных явлений в мировой литературе XX века. Главная тема его произведений, написанных с тонким вкусом и юмором, - бесконечная вселенная духа и тайны человеческой психологии. Материалы для своих новелл Акутагава черпал из исторических хроник, средневековых анекдотов и сборников старинных легенд. Акутагава полагал, что только через исключительное и неожиданное можно раскрыть подлинные движения души. Причудливое переплетение вымысла и реальности, глубина психологического анализа, парадоксальность суждений, мягкая ирония делают произведения Акутагавы подлинными шедеврами.