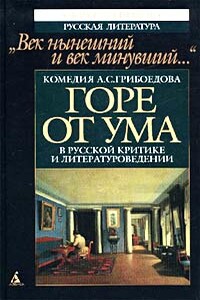Пепиньерка - [7]
Такова жизнь милой пленницы, пока наконец перед ней не падут затворы и тяжелая дверь не захлопнется за ней навсегда. Но долго, всю жизнь может быть, хранит она драгоценное воспоминание о неприступной обители. Пройдут годы — помчит ли ее великолепная карета с гербами мимо знакомых дверей, она поспешно опустит стекло, высунется из окна и, забыв вооружиться лорнетом, прямо, просто, по-прежнему устремит глаза на завешенные окна. Былое зашевелится в ее памяти, и она с улыбкою скажет: «Там, в первый раз…»
— Что в первый раз? — вдруг спросит дремлющий подле муж.
— Это тайна пепиньерки! — ответит она и прошепчет со вздохом чье-то имя.
— Что, что? какой Иван Алекс…….
Но экипаж уже умчал ее, ветер унес вздох, стук колес заглушил последние слова.
Пойдет ли она скромно, пешком, под ношей горя, — остановится против угрю[мого зда]ния, вспомнит Катю, Лизу, Надинь, бла[женных], тайны, улыбнется сквозь слезы и при[молвит]: «Там я была счастливее!»
И плешивый, сгорбившийся бл[аженный], обрыскав свет, воротится к невским берегам. Проснувшись в одно утро, он скажет: «Сегодня пятница! пойти было…» И пойдет, и притащится кое-как, взглянет на колоннаду и задумается с улыбкой. «Хорошо бывало там, — прошепчет он, — помню, о, помню! каково-то теперь? Только кто ж бы это мне так подгадил тогда!» Кряхтя и охая, взойдет он на ступени. Ба! да тут другой швейцар! «Не знаешь ли ты, брат, у себя ли инспектриса Марья Николаевна?» — «Да она не инспектриса, а начальница!» — «Ба! А тут ли еще такие-то пепиньерки?» — с трепетом спросит он. Задумается швейцар. «Не знаю-с, позвольте справиться… Да их уж двадцать лет как нет в заведении!» — ответит он потом. Поникнет печально головою экс-блаженный, подобно тому монаху, который, прослушав неприметно тысячу лет пение райской птички, воротился домой и не узнал своего монастыря. «Бог знает, — скажет блаженный, — как примет меня новая начальница: она, бывши и инспектрисой, частенько, бывало, выгоняла вон!» — махнет рукой и побредет прочь, прошептав: «Пепиньерки, пепиньерки! где-то они, мои голубушки!..»
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Жаль, что условия типа не позволяют мне начертать себе на память вещественного образа милого существа, называемого пепиньеркой. А сердце так и рвется, рука так и просится изобразить незабвенный лик. Не дерзнуть ли, презрев все условия и преграды? Нет! нет! это тайна блаженного; ее знают только пепиньерки, а прочим
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Что скажут, прочтя всё это, пепиньерки?
Что скажут блаженные? а?
Я знаю.
— Каково это! — скажут пепиньерки, — какого он об нас мнения! О противный!
— Подгадил! сильно подгадил! — примолвят блаженные.
Декабрь 1842

Цикл очерков Ивана Александровича Гончарова «Фрегат „Паллада“» был впервые опубликован в середине 50-х годов XIX века. В основу его легли впечатления от экспедиции на военном фрегате «Паллада» в 1852—1855 годах к берегам Японии с дипломатическими целями. Очерковый цикл представляет собой блестящий образец русской прозы, в котором в полной мере раскрывается мастерство И. А. Гончарова — художника, психолога, бытописателя.

Роман «Обломов» завоевав огромный успех, спровоцировал бурные споры. Сторонники одного мнения трактовали обломовщину как символ косности России с «совершенно инертным» и «апатичным» главным героем романа. Другие видели в романе философское осмысление русского национального характера, особого нравственного пути, противостоящего суете всепоглощающего прогресса.Независимо от литературной критики, мы имеем возможность соприкоснуться с тонким психологическим рисунком, душевной глубиной героя, мягким юмором и лиризмом автора.

Книга, которая написана более чем полвека назад и которая поразительно современна и увлекательна в наше время. Что скажешь – классика… Основой произведения является сопоставление двух взглядов на жизнь – жизнь согласно разуму и жизнь согласно чувствам. Борьба этих мировоззрений реализована в книге в двух центральных образах – дяди, который олицетворяет разумность, и его племянника, который выражает собой идеализм и эмоциональность. Одно из самых популярных произведений русской реалистической школы.
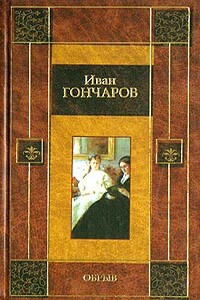
Классика русской реалистической литературы, ценимая современниками так же, как «Накануне» и «Дворянское гнездо» И.С.Тургенева. Блестящий образец психологической прозы, рисующий общее в частном и создающий на основе глубоко личной истории подлинную картину идей и нравов интеллектуально-дворянской России переломной эпохи середины XIX века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.