Педология: Утопия и реальность - [3]
Здесь уместно вспомнить известную парадоксальную сатиру в сокровенно-искреннем высказывании Д. Свифта о том, что воспитание детей менее всего может быть доверено их родителям. Д. Свифт при этом добавлял, что у ребенка из семьи бедняков и, как говорится, представителей трудового народа — больше шансов вырасти полноценным человеком, поскольку он с малых лет оказывается самостоятельнее и свободнее от эгоцентричной семейной замкнутости. Тезис Д. Свифта о неблагоприятном влиянии родителей с удовольствием развивает и Ф. Кафка в письмах (датированных 1921-м годом) своей сестре Элли, подчеркивая, что семья всегда настолько экспансивна и притязательна по отношению к ребенку, что дело непременно доходит, по крайней мере, до «духовного кровосмешения». Это воззрение можно сопоставить с более приземленным предостережением А. Залкинда (а прежде него и З. Фрейда) об опасности «избыточного эротизма» родительских ласк и возни с ребенком. Подробно, с присущей ему иронической проницательностью рассматривая причины, по которым воспитание родителями может оказаться пагубным, Ф. Кафка все же не решается предложить какую-либо альтернативу и высказать сожаление о том, что рос не в интернате или трудовой коммуне «Юный ленинец»…
Кора головного мозга — наиболее пластичный элемент всей физиологии человека — была, по мнению А. Залкинда, ответственна за формирование новых «социалистических» рефлексов и освобождение человека от натуралистических пут — «все меньше зависит он от естественной природы (солнца, леса, реки и пр.)»[21]. Среди «пр.» можно еще отметить естественно-интимные импульсы в самом человеке, но А. Залкинд уверенно констатировал, что все «так называемые» инстинкты и законы пола, возраста и наследственности претерпевают под влиянием социальной среды «глубочайшие и достаточно быстро развертывающиеся метаморфозы»[22].
А. Залкинд подчеркивал, что «кора» — «биопрогрессивный аппарат» — является основным проводником влияний среды, поскольку ответственна за речь и коммуникативные способности человека. «На вопросе об оценке значения коры и развернется решающий бой в антропологии»[23]. Кора рассматривалась как источник бесконечной мобильности психики и главный объект воспитательных воздействий. В этой апологии кора приобретает черты самостоятельного существования, начинает напоминать какое-то тотемное божество, становится «лучшим другом приближающегося социализма и нового биофонда в целом»[24]; «Коре по дороге с социализмом, и социализму по пути с корой»[25].
Предлагалось даже развивать отдельную отрасль знания — «биопластику» (она же «физиопластика»), которая могла бы заниматься не только сознанием, но и формогенезом, — анатомическим изменением органов, «воспитанием определенных социальных типов дыхания, пищеварения и пр.»[26]. Кортикальные воздействия должны были привести к изменению «основного субстрата тела» на уровне «зародышевых клеток»[27], пусть для этого и потребуется «целая серия поколений». Подобная апология «коры» заставляет вспомнить марсиан из «Войны миров» Г. Уэллса — аморфных существ с огромным мозгом, который занимал чуть ли не треть всего туловища. Они, правда, внезапно погибли — или из-за отсутствия иммунитета к земной микрофлоре, или вследствие крайне неблагоприятных «кортикальных влияний» земной социальной среды…
Необходимо сказать, что философская трактовка А. Залкиндом учения о рефлексах была достаточно вульгарной, поскольку он допускал полное отождествление таких понятий, как «кора головного мозга», «сознание», «психика», «восприятие» и т. д. Первой в этом ряду стояла, разумеется, «социальная среда», от которой «всецело» зависела деятельность «коры»[28].
Наряду с достижениями рефлексологии педологи пытались активно пользоваться клиническим материалом учений о психоневрозах — будь то «суггестисты», психоаналитики или «адлеристы», подтверждающие роль кортикальных влияний как в патогенном, так и в целительном изменении различных функций организма. Это позволяло надеяться на создание «революционно-боевой», можно сказать, императивной доминанты в характере человека благодаря планомерным воспитательным воздействиям. Вообще исследования в области психоневрозов рассматривались, прежде всего, как возможность подтвердить теорию «доминанты».
Классический опыт ее создателя А. Ухтомского заключался в организации ряда раздражителей для лягушки, которая находилась в состоянии полового возбуждения и любые, даже мучительные импульсы извне, например, прижигание или покалывание, направляла на усиление половой доминанты — «обнимательного рефлекса». Отсюда следовал вывод, что при такой ярко выраженной целеустремленности даже отвлекающие побочные воздействия могут быть автоматически преобразованы в стимул для развития доминирующей психофизиологической направленности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
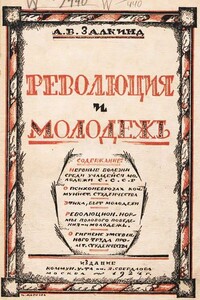
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Книги завершает цикл исследований автора, опубликованных в Издательстве Казанского университета по македонской тематике. «История античной Македонии», часть 1, 1960; часть II. 1963; «Восточная политика Александра Македонского». 1976. На базе комплексного изучения источников и литературы вопроса рассматривается процесс распада конгломератных государств древности, анализируется развитие социальных, военно-политических и экономических противоречий переходной эпохи обновления эллинистических государств, на конкретном материале показывается бесперспективность осуществления идеи мирового господства. Книга написана в яркой образной форме, снабжена иллюстрациями.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.

Л. Д. Зиновьева-Аннибал (1866–1907) — талантливая русская писательница, среди ее предков прадед А. С. Пушкина Ганнибал, ее муж — выдающийся поэт русского символизма Вячеслав Иванов. «Тридцать три урода» — первая в России повесть о лесбийской любви. Наиболее совершенное произведение писательницы — «Трагический зверинец».Для воссоздания атмосферы эпохи в книге дан развернутый комментарий.В России издается впервые.
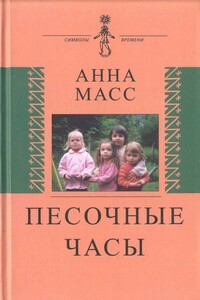
Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор многих книг и журнальных публикаций. В издательстве «Аграф» вышли сборники ее новелл «Вахтанговские дети» и «Писательские дачи».Новая книга Анны Масс автобиографична. Она о детстве и отрочестве, тесно связанных с Театром имени Вахтангова. О поколении «вахтанговских детей», которые жили рядом, много времени проводили вместе — в школе, во дворе, в арбатских переулках, в пионерском лагере — и сохранили дружбу на всю жизнь.Написана легким, изящным слогом.
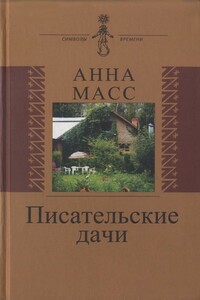
Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор 17 книг и многих журнальных публикаций.Ее новое произведение — о поселке писателей «Красная Пахра», в котором Анна Масс живет со времени его основания, о его обитателях, среди которых много известных людей (писателей, поэтов, художников, артистов).Анна Масс также долгое время работала в геофизических экспедициях в Калмыкии, Забайкалье, Башкирии, Якутии. На страницах книги часто появляются яркие зарисовки жизни геологов.
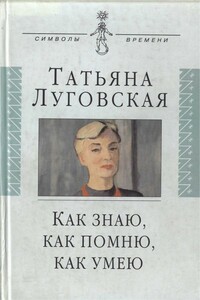
Книга знакомит с жизнью Т. А. Луговской (1909–1994), художницы и писательницы, сестры поэта В. Луговского. С юных лет она была знакома со многими поэтами и писателями — В. Маяковским, О. Мандельштамом, А. Ахматовой, П. Антокольским, А. Фадеевым, дружила с Е. Булгаковой и Ф. Раневской. Работа театрального художника сблизила ее с В. Татлиным, А. Тышлером, С. Лебедевой, Л. Малюгиным и другими. Она оставила повесть о детстве «Я помню», высоко оцененную В. Кавериным, яркие устные рассказы, записанные ее племянницей, письма драматургу Л. Малюгину, в которых присутствует атмосфера времени, эвакуация в Ташкент, воспоминания о В. Татлине, А. Ахматовой и других замечательных людях.