Паж цесаревны - [19]
— Вздор! — так и вспыхивает юный Петр. — Пустяки ты говоришь, Лиза. Вот и Остерман, Андрей Иванович, говорит, что можно это. А он умный, Лизанька, умнее всех в мире. Ах, Лиза, Лиза, согласись на мою просьбу, милая моя!
— Не могу! Не проси, Петруша! Молчи! Молчи! — молит царевна.
— Ага, знаю, отчего не можешь… Ты своего мертвого принца все помнишь! Или о Морице Саксонском, новом искателе, мечтаешь? Люб он тебе, да? — подозрительно выспрашивает молодую тетку юноша-племянник.
— Никто мне не люб, Петруша, — ни Мориц, ни другой кто. А принц Карл умер, — грешно тосковать по нем. Нет у меня любви ни к кому… Не томи ты меня зря допросами, Петруша!
— Ну, ладно, будь по-твоему. Не любишь меня, Бог с тобою. Возьму себе другую жену. Цари должны выбирать себе невест не по сердцу, а как для государства удобнее… Только смотри, чтобы худо от того не было. Привезут сюда какую-нибудь захудалую немецкую принцессу и сделают из нее царицу… Тебе же хуже будет потом: придется целовать ручки новой государыне, которая тебе по высоте рода в служанки годится. Увидишь тогда, худо будет! — желчно смеется Петруша.
Но не немецкая принцесса, а княжна Екатерина Долгорукая навязана усердными вельможами-родичами в невесты царю.
Царь был прав. «Худо» случилось, но по другой совсем причине. Схватил оспу юный император, и не пришлось цесаревне Елизавете целовать ручек его жене, государыне. Пришлось другую руку целовать ей, руку курляндской герцогини…
То светлые, то мрачные картины встают, всплывают из полумрака царевниной горницы… Целая вереница их вьется в Усталых мыслях цесаревны. Притомились эти мысли… Мешается быль с действительностью, правда со сказкой, и незаметно сон подкрадывается и смыкает усталые очи… Но и во сне не отстают от цесаревны далекие, милые призраки прошлого…
То счастливая улыбка, то облако грусти сменяются на прелестном сонном лице. А ночь тянется, тянется, бесконечно, октябрьская, темная ночь…
Глава XIII
Посланец. Веселая затея. Царевна-крестьянка. Ссора
— Проснись, вставай, Ваше Высочество! Курьер прискакал из Санкт-Петербурга, от самой, говорит, Юшковой… — сквозь сон звучит над ухом цесаревны знакомый голос.
Мавра Егоровна Шепелева, молодая, немногим старше своей госпожи, приближенная фрейлина цесаревны, наклоняется заботливо над спящей золотистой головкой.
— Проснись, цесаревна! — легонько тронув за плечо Елизавету, говорит она.
Ей бесконечно жаль прерывать сон красавицы. Сладко под утро спится цесаревне. Счастливая улыбка бродит по ее лицу. Верно, хорошие сны ей снятся. А будить надо. Курьер из дворца — дело не шуточное. Может, важное что им сообщит.
— Проснись! Проснись, Ваше Высочество! — снова теребит свою заспавшуюся госпожу верная Мавра.
— А? А? Что такое? Курьер, говоришь? Господи! Еще что занадобилось там? — с тревогой произнесла, разом приходя в себя, цесаревна, и сон, как по волшебству, соскочил с нее. — Одеваться, Мавруша, одеваться скорее! — вскричала она, быстро вспрыгивая из постели.
Ночных грез как не бывало. И сладкие, и мрачные воспоминания — все исчезло при утреннем блеске осеннего солнца. Жмурясь от его назойливых лучей, стала торопливо, при помощи Мавруши и кликнутых ею девушек-камеристок, одеваться цесаревна.
— День-то, день какой, словно тебе лето, — поглядывая в окна, весело говорила Шепелева. — В такой-то день не грешно и лето вспомнить. Созвать разве девок, да хороводы поводить напоследок перед зимним затишьем, а? Ты какую резолюцию на этот счет. Ваше Высочество, положишь? — лукаво сощурив свои бойкие, живые глазки, прибавляет она.
— И то дело! Погуляем на славу, — говорит, разом развеселившись, цесаревна. — Зови Чегаеву Марфуньку и других… Ах, а курьер-то! — вдруг неожиданно осеклась она, и оживленное за минуту до того личико приняло озабоченное выражение раздумья.
— Ну, что курьер! Курьер не зверь, носа не откусит, — грубовато отрезала Мавруша, всегда державшая себя попросту, без затей, с царевной. — Примешь курьера, а сама айда на луг…
— А то… знаешь что? — вдруг громко и весело расхохоталась Елизавета. — Я не выйду сейчас к курьеру.
Тут она живо притянула к себе голову своей любимицы и зашептала ей что-то на ухо, так, чтобы не могли услышать ее девушки-камеристки.
Верно, веселое что-нибудь сообщила своей любимице Елизавета, потому что та так и прыснула со смеху, так и покатилась, ухватившись за бока.
— Ай да ловко придумала, ай да царевна моя золотая! Вот-то разодолжила, Ваше Высочество! — хлопая в ладоши, радовалась Шепелева. И потом, обратясь к окружавшим Елизавету девушкам-камеристкам, спешно проговорила, все еще продолжая смеяться: — Бегите-ка, девоньки, к Марфутке Чегаехе, велите ей всех наших первых дишкантов созвать на луг. Скажите, цесаревна, глядя на солнышко, погулять напоследок в хороводе хочет. Гость, слышь, у нас из Петербурга… Так чтобы не осрамились, глядели бы певуньи наши… Да скорее вы лупите, стрекозы, слышь!
— Ладно, Мавра Егоровна, не сомневайся, живой рукой дело обделаем, — предвкушая новую затею веселой, изобретательной на шутки царевны, радостно отозвались камеристки и кинулись бегом исполнять приказание старшей фрейлины.

Некрасивая, необщительная и скромная Лиза из тихой и почти семейно атмосферы пансиона, где все привыкли и к ее виду и к нраву попадает в совсем новую, непривычную среду, новенькой в средние классы института.Не знающая институтских обычаев, принципиально-честная, болезненно-скромная Лиза никак не может поладить с классом. Каждая ее попытка что-то сделать ухудшает ситуацию…

Жила в роскошном замке маленькая принцесса Эзольда, хорошенькая, нарядная, всегда в расшитых золотом платьях и драгоценных ожерельях. Словом, настоящая сказочная принцесса — и, как все сказочные принцессы, недовольная своей судьбой.Совсем избаловали маленькую Эзольду. Баловал отец, баловала мать, баловали старшие братья и сестры, баловала угодливая свита. Чего ни пожелает принцесса — мигом исполняется…
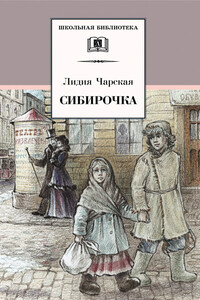
В книгу Л. Чарской, самой популярной детской писательницы начала XX века, вошли две повести: «Сибирочка» и «Записки маленькой гимназистки».В первой рассказывается о приключениях маленькой девочки, оставшейся без родителей в сибирской тайге.Во второй речь идет о судьбе сироты, оказавшейся в семье богатых родственников и сумевшей своей добротой и чистосердечностью завоевать расположение окружающих.Для среднего школьного возраста.
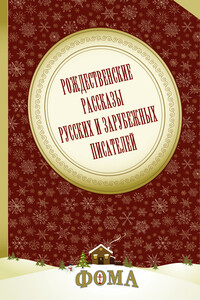
Истории, собранные в этом сборнике, объединяет вера в добро и чудеса, которые приносит в нашу жизнь светлый праздник Рождества. Вместе с героями читатель переживет и печаль, и опасности, но в конце все обязательно будет хорошо, главное верить в чудо.

Повесть о жизни великого подвижника земли русской.С 39 иллюстрациями, в числе которых: снимки с картин Нестерова, Новоскольцева, Брюллова, копии древних миниатюр, виды и пр. и пр.

На заброшенном маяке среди песков живут брат и сестра, Яша и Лиза. Когда-то маяк стоял на берегу Каспийского моря, но море обмелело, ушло. Однажды на маяке появился молодой ученый Филипп Мальшет, который поставил своей целью вернуть изменчивое море родным берегам, обуздать его. Появление океанолога перевернуло жизнь Яши и Лизы. Мальшет нашел в них единомышленников, верных друзей и помощников. Так и шагают по жизни герои романов «Смотрящие вперед» и «Обсерватория в дюнах» вместе, в ногу. С хорошими людьми дружат, с врагами борются, потому что не равнодушны, потому что правдивы и честны.
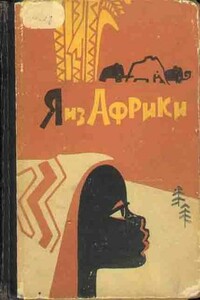
Мой дорогой читатель!Хотя ты и старше героини этой повести, все-таки не откладывай книгу в сторону. Познакомься с девочкой из Анголы, из африканской страны, где акации цветут красными цветами, где людей заковывают в цепи и где еще никогда не бывал ни один советский человек.Ты спросишь: а как же я смогла написать эту книгу, если я там не была?Мои ангольские друзья много рассказывали мне о своей прекрасной, страдающей родине, и я поняла, что мой долг рассказать тебе все то, что узнала я. И ты должен ненавидеть жестокую несправедливость, которая еще существует на свете, и ты должен уважать мужественных людей, которые сражаются за независимость родины.

Повесть для девочек, бабушек и говорящих собак наверняка окажется интересной и для мальчиков, мам и пап, и, само собой разумеется, для дедушек.
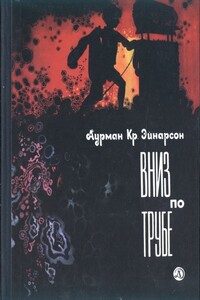
Повесть посвящена событиям в Исландии, которые в свое время приковывали к себе внимание всего мира, — это извержение вулкана и рождение острова Сюртсэй в 1963 году. Страницы книги проникнуты любовью к детям, к простым исландцам-труженикам, к их стойкости и трудолюбию.
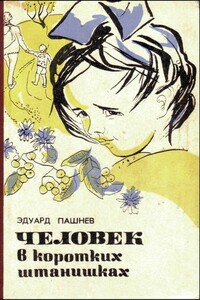
«… – А теперь, – Реактивный посерьезнел, и улыбчивые складки вокруг его брезгливого рта приобрели вдруг совсем другой смысл. Они стали жестокими. – А теперь покажи-ка ему, что мы делаем с теми мальчиками, не достигшими паспортного возраста, которые пробуют дурачить Реактивного и его закадычного друга Жору.С потолка на длинном проводе свешивалась над столом засиженная мухами лампочка. Монах поймал ее, вытер рукавом и вдруг сунул в широко перекошенный рот. Раздался треск лопнувшего стекла. Мелкие осколки с тонким звоном посыпались на пол.

