Пастораль с лебедем - [182]
Другие тоже гадали, разузнавали. Но много ли проку ждать у моря погоды? До Вулпешт рукой подать, надо собраться да нагрянуть всем миром к этому слепому. Потолковать, расспросить честь по чести. Так, мол, и так, добрый человек, не встречал ли кого из наших? Может, еще чей-то умник артачится: «Не хочу домой!» Бог ему судья, а нам бы только знать: живы, нет ли?..
Пусть выкладывает, что приключилось с сыном Мэфтулясы. Такой бравый парень был, рослый и ладный — картинка! Надо же, начудил. Или покалечило, руки-ноги потерял и не хочет быть чужим в тягость? Мол, обуза, никудышный, а если сердце крепкое… Ведь человек что дерево: обрубишь ветки, одну за другой, корой затянет раны, и стоит оно живое долгие годы, дышит… Помните того калеку, на тележке по базару ездит, безногий? Женщины на сносях даже отворачиваются, чтоб не видеть, а он катит себе на колесиках. Не затерялся по чужим дворам, вернулся…
Урожайным выдалось то лето. Заканчивали вторую прополку кукурузы, но зарядили дожди, с жатвой решили повременить. И такое это было лето… все куда-нибудь что-нибудь писали! Понятно, не сами писали; то там, то сям в будни и по выходным сидел у ворот сельский грамотей и сочинял письма в штаб армии, а то и самому Жукову или Рокоссовскому лично, чтобы на веки вечные воцарился на земле порядок, не говоря уже о другом — как бы найти пропавших…
— Разве только сын Мэфтулясы? И почему слепой не скажет, где это было? Ведь нет человека? Нет. А слепой с ним беседовал!.. И твои, Михалаке, не вернулись и ваши, Сынджеры. А Аргир?.. Хотя с него взятки гладки, сироте вся земля дом родной. Но с носками он неспроста, всегда слыл мастером на всякие выкрутасы. Помню, нанялся поденщиком к старшей Бузеску, Тудосии, кукурузу полоть. Кто ее не знает, скупердяйку! Уродилась же, снегу зимой не выпросишь. Хоть с утра до темна гни спину — сунет мамалыгу с повидлом, кормись как хошь. Под ложечкой сосет, что за еда для мужика — мамалыга с повидлом! Ну, Аргир долго не думая закатал штаны и давай мазать повидлом ноги, густо-густо, до коленок: надо и мух пожалеть, хозяйка, они, поди, тоже голодные. Улегся под кустом и ноги задрал: налетай — подешевело!..
— Заладили — Аргир, Аргир! Думаете, я что-нибудь знаю про Иона? Прислали какие-то бумажки… небось, перепутали все на свете… Нет, надо сходить к Каранфилову племяннику, пусть скажет, как есть!
Собрались и пошли… Такие вот люди мои односельчане. Не то чтобы они решили, будто смерть вообще не для них, нет. Но свербит внутри что-то, нашептывает: «Человек, бре, не кусок мыла, запросто в порошок не сотрешь. Смерть свое дело правит, а что ни говори, есть и по ту сторону жизни какая-то закорюка, лопнуть мне на этом месте! Возьми хоть Бузеску — тридцать лет за него свечки в церкви ставили, и на тебе, воскрес, объявился!..»
Я не знал тогда, кто пошел к племяннику бади Каранфила и зачем. Видел только, как вечером они возвращались…
Наш дом стоял на большом холме, и отсюда, с вершины, было видно, как садится солнце. Закаты разливались над лесом и вулпештскими полями, над камышовыми крышами и глиняными завалинками. С детства я невзлюбил рассветы. Будь моя воля, оставил бы одни закаты на земле, ведь каждое утро начиналось с тычка и окрика: «Вставай, сатана, хватит бока греть — солнце поднялось!»
А я свернусь клубочком, теплый со сна, и мычу, все тело ноет от темечка до пят. Вчера гонял по холмам и межам за скотиной, а при такой беготне вся надежда на закат — скорей бы скатился за гору Кристешты этот шар и утонул в Пруте долгий день. Тогда я растянусь на лавке и опять застонут все поджилочки, сбитые пятки и коленки, а чуть закрою глаза, над ухом снова: «Эй, разоспался, лежебока!..»
Может, потому и Тудор Бузеску подал голос, стосковался в Моравии по нашим вечерним зорям? Потянуло посидеть на лысой макушке холма под закатным кострищем, когда вспыхнет полнеба, и завопить от восторга: «Мэ-эй, ребята! Вот чертовщина, будто сызнова на свет народился!..»
Полыхал закат, люди устало брели восвояси от слепого. Остановились у нашей калитки.
— Сестрица, дома твой школяр? — подозвала маму тетя Наталица.
Мама как раз стряпала на летней кухне.
— На вот, перекуси… — сунула мне пару вареных картошек. — Пойди отвяжи корову и телку, пусть пасутся, пока стемнеет. Да присмотри, не то забредут в кукурузу!
Увидев у калитки столько народу, всплеснула руками:
— Дома мы, дома, заходите!
— Нам бы только адрес написать, — сказала тетя.
По тем временам я слыл за великого писаря. Разве станут кому попало выдавать каждый месяц по четыре литра керосина, притом бесплатно? Мы с бадей Каранфилом завели ликбез, подрядились выучить односельчан грамоте, чтоб те хотя бы расписаться могли. Подпись с великими трудами они одолели, но нужно каракулю под чем-то поставить! И тут без меня ни шагу — адрес вывести на конверте, жалобу настрочить, прошение или еще что…
За спиной тети у забора молча стояли Михалаке Капрару со своей старухой, трое Сынджеров, оба брата Котялэ, рядом с ними свояченица Мэфтулясиного сына и какая-то незнакомая женщина.
Вы, небось, про Анну-Марию подумали? Нет, ее не было. Никому бы в голову не пришло, что она станет допытываться, как Аргир поживает за тридевять земель. Она и на людях-то редко показывалась, за мужа стыдилась. Сгинул Митрикэ Гебан. Где, когда? Снежинкой растаял, не то герой, не то пушечное мясо… Старого грешка ей в селе тоже не забыли, когда плакала над каким-то солдатом и Аргиром звала…
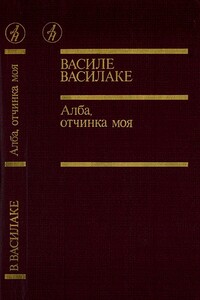
В книгу одного из ведущих прозаиков Молдавии вошли повести — «Элегия для Анны-Марии», «На исходе четвертого дня», «Набросок на снегу», «Алба, отчинка моя…» и роман «Сказка про белого бычка и пепельного пуделя». Все эти произведения объединены прежде всего географией: их действие происходит в молдавской деревне. В книге представлен точный облик современного молдавского села.

В повести Василе Василаке «На исходе четвертого дня» соединяются противоположные события человеческой жизни – приготовления к похоронам и свадебный сговор. Трагическое и драматическое неожиданно превращается в смешное и комическое, серьезность тона подрывается иронией, правда уступает место гипотезе, предположению, приблизительной оценке поступков. Создается впечатление, что на похоронах разыгрывается карнавал, что в конце концов автор снимает одну за другой все маски с мертвеца. Есть что-то цирковое в атмосфер «повести, герои надели маски, смеющиеся и одновременно плачущие.

Жизнь в театре и после него — в заметках, притчах и стихах. С юмором и без оного, с лирикой и почти физикой, но без всякого сожаления!

От автора… В русской литературе уже были «Записки юного врача» и «Записки врача». Это – «Записки поюзанного врача», сумевшего пережить стадии карьеры «Ничего не знаю, ничего не умею» и «Все знаю, все умею» и дожившего-таки до стадии «Что-то знаю, что-то умею и что?»…

У Славика из пригородного лесхоза появляется щенок-найдёныш. Подросток всей душой отдаётся воспитанию Жульки, не подозревая, что в её жилах течёт кровь древнейших боевых псов. Беда, в которую попадает Славик, показывает, что Жулька унаследовала лучшие гены предков: рискуя жизнью, собака беззаветно бросается на защиту друга. Но будет ли Славик с прежней любовью относиться к своей спасительнице, видя, что после страшного боя Жулька стала инвалидом?

В России быть геем — уже само по себе приговор. Быть подростком-геем — значит стать объектом жесткой травли и, возможно, даже подвергнуть себя реальной опасности. А потому ты вынужден жить в постоянном страхе, прекрасно осознавая, что тебя ждет в случае разоблачения. Однако для каждого такого подростка рано или поздно наступает время, когда ему приходится быть смелым, чтобы отстоять свое право на существование…

История подростка Ромы, который ходит в обычную школу, живет, кажется, обычной жизнью: прогуливает уроки, забирает младшую сестренку из детского сада, влюбляется в новенькую одноклассницу… Однако у Ромы есть свои большие секреты, о которых никто не должен знать.

Эрик Стоун в 14 лет хладнокровно застрелил собственного отца. Но не стоит поспешно нарекать его монстром и психопатом, потому что у детей всегда есть причины для жестокости, даже если взрослые их не видят или не хотят видеть. У Эрика такая причина тоже была. Это история о «невидимых» детях — жертвах домашнего насилия. О детях, которые чаще всего молчат, потому что большинство из нас не желает слышать. Это история о разбитом детстве, осколки которого невозможно собрать, даже спустя много лет…