Пастернак в жизни - [11]
(Гершон С.М. Памяти Л. Пастернака: к столетию со дня рождения // Вестник Израиля. 1962. № 30–31)
Розалия Исидоровна Кауфман
Дорогая мамочка! Сейчас я шутки ради надел очки, и вышло, что я так похож на тебя, что Женя даже просила не снимать их, чтобы подольше тебя видеть…
(Б.Л. Пастернак – Р.И. Пастернак, 24 августа 1928 г.)
Еще девочкой Роза Кауфман, чуть ли не пяти лет, проявляла редкостную и феноменальную приверженность музыке. Музыка была ее детством и заменяла ей обычные игры и помыслы детей. Еще девочкой, отставив свою детскость и детские забавы, она целиком отдалась музыке, готовила себя к более ответственной и трудной жизни. И все тогда этому благоприятствовало: и радость бытия, и темперамент, и радость музыкальной деятельности почти профессионала, и ярко выраженный талант, и, конечно, молодость. <…> Этот период, который можно назвать периодом «трех имен», сыграл в ее музыкальном развитии фундаментальную роль. Из податливой глины три имени вылепили нужный им образ музыканта большой значимости и вдохновенности: сначала Игнатий Тедеско, когда она была еще ребенком, затем Антон Рубинштейн, проявивший большой интерес и заботу, когда она была уже признанной исполнительницей-подростком, и Игнатий[24] Лешетицкий в Вене – им, в его классе, и закончилось создание музыканта-исполнителя.
(Пастернак А.Л. Воспоминания. С. 12–13)
Мама была великолепной пианисткой; именно воспоминание о ней, о ее игре, о ее обращении с музыкой, о месте, которое она ей так просто отводила в обиходе, дало мне в руки то большое мерило, которого не выдерживали потом все последующие мои наблюдения. Так же точно высота папиного мастерства, полнота и неистощимость того, что он вкладывал в совершенную форму рисунка, и того, что он умел сделать из простого факта и явления сходства, не позволяли мне на протяжении всех следующих лет позировать кому-нибудь или вешать на стену что-либо из того, что мне дарили художники.
(Б.Л. Пастернак – Ж.Л. Пастернак, 16 мая 1958 г.)
Моя [мать. – Примеч. авт. – сост.] в 12 лет играла концерт Шопена, и кажется, Рубинштейн дирижировал. Или присутствовал на концерте в Петербургской консерватории. Но не в этом дело. Когда она кончила, он поднял девочку над оркестром на руки и, расцеловав, обратился к залу (была репетиция, слушали музыканты) со словами: «Вот как это надо играть». Ее звали Кауфман, она ученица Лешетицкого. <…> Она воплощенье скромности, в ней нет ни следа вундеркиндства, все отдала мужу, детям, нам. <…> Мама при нас уже не выступала. Всю жизнь я ее помню грустной и любящей.
(Б.Л. Пастернак – М.И. Цветаевой, 20 апреля 1926 г.)
В 1889 году после свадьбы ее, после ее переезда в Москву, родился как бы новый человек с другими взглядами на свою новую жизнь, на понимание самой себя, на свое новое предназначение. Так случилось, что семья, долг перед семьей и дело мужа-художника полностью перекрыли все ее прошлое. Жизнь артистки была направлена теперь по другому, новому руслу. С тем же прежним рвением, темпераментом и артистической широтой, с какими девочка, а затем и молодая пианистка всю себя отдавала делу музыки, так в замужестве она поставила новой целью жизни, деятельности и обязанности – дело своей семьи.
(Пастернак А.Л. Воспоминания. С. 15)
Первая серия квартетных собраний русского музыкального общества состоит из 4-х собраний, которые состоятся 12-го и 19-го октября, 2-го и 16-го ноября. Состав квартета прошлогодний, а в качестве пианистов выступят г-жа Пастернак, профессор Беттинг и Шлёцер и кто-нибудь из молодых пианистов нашей консерватории.
(Новости дня. 1895. 2 октября. № 4423. С. 3)
В четверг, 12 октября, начались квартетные собрания музыкального общества. В последние годы вечера эти пользуются большим успехом, и на этот раз малая зала собрания была совершенно полна, и понадобилось даже приставлять стулья в смежной зале. Программа состояла из очень старых знакомых: квартета Es-Dur Моцарта, фортепианного квинтета Шумана и квартета E-moll Бетховена. <…> В квинтете Шумана фортепианную партию исполняла г-жа Пастернак. В одном из благотворительных концертов прошлого сезона мы познакомились с молодой пианисткой и отметили тогда прекрасное впечатление, произведенное ее игрой; теперь мы можем повторить то же самое. Г-жа Пастернак обладает не только техникой и вкусом, но сверх того наделена артистическим темпераментом, дающим игре ее много жизни. Вероятно, не совсем ознакомившись с акустикой залы, артистка в тех местах, где фортепиано имеет аккомпанирующую роль, отступала слишком на задний план перед другими инструментами, то есть попросту играла более piano, нежели нужно; зато все выдающиеся места своей партии она фразировала очень рельефно и с большим вкусом. Все исполненные номера вызывали шумные аплодисменты, а по окончании квинтета Шумана г-жа Пастернак, на требования повторения, сыграла еще раз скерцо из квинтета. Вообще пианистка имела весьма большой успех…
(Н. К-ин [Н. Кашкин] Театр и музыка // Русские ведомости. 1895. 14 октября. № 284. С. 3)
Мы были приятно поражены, заставши в прошлый четверг в квартетном собрании, открывшем собою сезон музыкального общества, зал переполненным публикой, несмотря на то что программа не давала ни одного нового или малоизвестного сочинения камерной музыки. <…> В лице г-жи Пастернак, исполнительницы фортепианной партии квинтета Шумана, мы познакомились с крайне симпатичной пианисткой, музыкальной, обладающей живым, горячим темпераментом и прекрасной уверенной техникой и умеющей извлекать из инструмента полный и мягкий звук. Если некоторая естественная взволнованность при первом серьезном дебюте и давала себя заметить, в виде едва уловимых нарушений общего плана исполнения, зато она же и содействовала впечатлению, в виде непосредственного увлечения, чувствовавшегося в особенности в последних частях <…>. Все эти происходящие еще от некоторой неопытности недостатки, без сомнения, исчезнут при более частом появлении уважаемой пианистки на эстраде, которое мы можем ей от души пожелать, тем более что на публику исполнение ее произвело крайне выгодное впечатление, и настойчивые рукоплескания и требования на
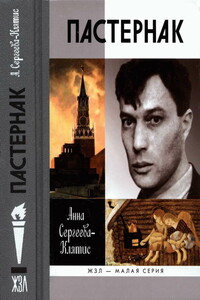
Имя Бориса Леонидовича Пастернака (1890 — 1960) крупными буквами вписано в историю мировой литературы. Новая биография выдающегося поэта XX века выгодно отличается от предшествующих своей компактностью и сосредоточенностью на самых значимых для героя и самых интересных для читателя темах: Пастернак и семья, Пастернак и женщины. Пастернак и современные ему поэты, Пастернак и власть. Каждый из сюжетов раскрыт с наибольшей полнотой, от начала и до конца, с намеренной установкой на биографическую точность и достоверность.
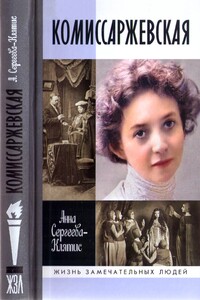
Имя Веры Фёдоровны Комиссаржевской (1864—1910) олицетворяет собой эпоху в истории отечественного театра. Современники восхищались ею и боготворили её, награждая эпитетами почти пушкинского масштаба. В чём же феномен всеобщей влюблённости и всеобщего преклонения перед этой хрупкой женщиной? Почему именно она стала символом, объединившим несколько поколений? Как объяснить то, что актриса, добившаяся всенародного признания и невероятной славы, на пике своей карьеры бросила театр ради создания — ни больше ни меньше — «школы нового человека»? И лишь трагическая смерть в самом расцвете сил не позволила ей приступить к выполнению этой, невиданной ранее задачи... О жизни «Чайки русской сцены» — жизни, полной страданий и любви, громких триумфов и столь же громких неудач, крутых поворотов и вечных сомнений, — рассказывает постоянный автор серии «ЖЗЛ», историк литературы, профессор Московского университета Анна Сергеева-Клятис, являющаяся «по совместительству» дальней родственницей великой русской актрисы.

Книга рассказывает о повседневной жизни обитателей Михайловского — имения, принадлежавшего семье Александра Сергеевича Пушкина. В центре повествования не только те два года, которые Александр Сергеевич провел здесь безвыездно в ссылке (с августа 1824-го по сентябрь 1826-го), но и другие приезды Пушкина на псковскую землю, куда он много раз еще возвращался. Автор стремится проследить все, даже самые мелкие детали быта Пушкина, его ежедневных впечатлений, общения и т. д., исходя из того непреложного факта, что обстоятельства повседневности для любого человека важны не меньше, чем крупные исторические события и переломы эпох и именно из них преимущественно складывается человеческая жизнь: «всесильный бог деталей» стоит за всеми ее перипетиями. Вторая часть книги описывает повседневную жизнь Михайловского без Пушкина.

Один из наиболее совершенных стихотворцев XIX столетия, Константин Николаевич Батюшков (1787–1855) занимает особое место в истории русской словесности как непосредственный и ближайший предшественник Пушкина. В житейском смысле судьба оказалась чрезвычайно жестока к нему: он не сделал карьеры, хотя был храбрым офицером; не сумел устроить личную жизнь, хотя страстно мечтал о любви, да и его творческая биография оборвалась, что называется, на взлете. Радости и удачи вообще обходили его стороной, а еще чаще он сам бежал от них, превратив свою жизнь в бесконечную череду бед и несчастий.
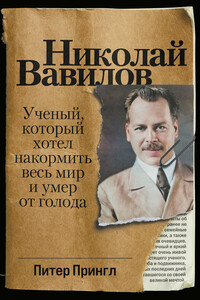
Один из величайших ученых XX века Николай Вавилов мечтал покончить с голодом в мире, но в 1943 г. сам умер от голода в саратовской тюрьме. Пионер отечественной генетики, неутомимый и неунывающий охотник за растениями, стал жертвой идеологизации сталинской науки. Не пасовавший ни перед научными трудностями, ни перед сложнейшими экспедициями в самые дикие уголки Земли, Николай Вавилов не смог ничего противопоставить напору циничного демагога- конъюнктурщика Трофима Лысенко. Чистка генетиков отбросила отечественную науку на целое поколение назад и нанесла стране огромный вред. Воссоздавая историю того, как величайшая гуманитарная миссия привела Николая Вавилова к голодной смерти, Питер Прингл опирался на недавно открытые архивные документы, личную и официальную переписку, яркие отчеты об экспедициях, ранее не публиковавшиеся семейные письма и дневники, а также воспоминания очевидцев.
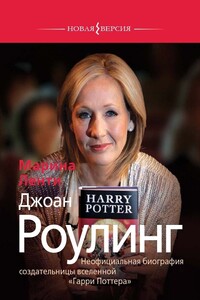
Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.
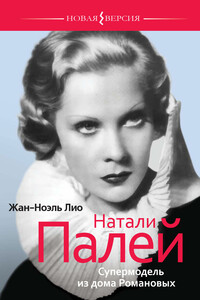
Необыкновенная биография Натали Палей (1905–1981) – княжны из рода Романовых. После Октябрьской революции ее отец, великий князь Павел Александрович (родной брат императора Александра II), и брат Владимир были расстреляны большевиками, а она с сестрой и матерью тайно эмигрировала в Париж. Образ блистательной красавицы, аристократки, женщины – «произведения искусства», модели и актрисы, лесбийского символа того времени привлекал художников, писателей, фотографов, кинематографистов и знаменитых кутюрье.
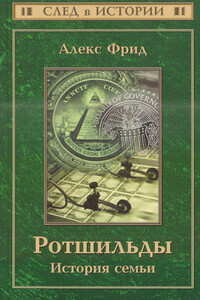
Имя банкирского дома Ротшильдов сегодня известно каждому. О Ротшильдах слагались легенды и ходили самые невероятные слухи, их изображали на карикатурах в виде пауков, опутавших земной шар. Люди, объединенные этой фамилией, до сих пор олицетворяют жизненный успех. В чем же секрет этого успеха? О становлении банкирского дома Ротшильдов и их продвижении к власти и могуществу рассказывает израильский историк, журналист Атекс Фрид, автор многочисленных научно-популярных статей.

Многогранная дипломатическая деятельность Назира Тюрякулова — полпреда СССР в Королевстве Саудовская Аравия в 1928–1936 годах — оставалась долгие годы малоизвестной для широкой общественности. Книга доктора политических наук Т. А. Мансурова на основе богатого историко-документального материала раскрывает многие интересные факты борьбы Советского Союза за укрепление своих позиций на Аравийском полуострове в 20-30-е годы XX столетия и яркую роль в ней советского полпреда Тюрякулова — талантливого государственного деятеля, публициста и дипломата, вся жизнь которого была посвящена благородному служению своему народу. Автор на протяжении многих лет подробно изучал деятельность Назира Тюрякулова, используя документы Архива внешней политики РФ и других центральных архивов в Москве.
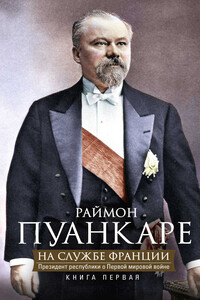
Воспоминания видного государственного деятеля, трижды занимавшего пост премьер-министра и бывшего президентом республики в 1913–1920 годах, содержат исчерпывающую информацию из истории внутренней и внешней политики Франции в период Первой мировой войны. Особую ценность придает труду богатый фактический материал о стратегических планах накануне войны, основных ее этапах, взаимоотношениях партнеров по Антанте, ходе боевых действий. Первая книга охватывает период 1914–1915 годов. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.