Пассажир без билета - [19]
«Интересно, куда это он на ночь глядя попер? — подумал Осинский. — В штабе еще работают... Ишь, вышагивает, проклятый! Сверток какой-то под мышкой тащит. Наверное, хлеб и сахар. Будет выменивать, гад!»
Все солдаты не уважали и не любили лейтенанта Снежкова. Карьерист он и самодур. Каждый солдат испытал на себе эти качества Снежкова, и ефрейтор Осинский тоже.
Не раз сталкивались Снежков и Осинский, и всегда Снежков использовал свое положение старшего по званию и всячески унижал Осинского.
А недавно произошло следующее. Снежков дежурил по полку. Осинского назначили охранять самый дальний склад боеприпасов. Вечерело. Выл ветер, мела поземка. Осинский увидел Снежкова.
— Стой, кто идет?
Снежков молчал. Шел прямо на Осинского.
— Стой, кто идет?
Лейтенант ничего не ответил. Осинский щелкнул затвором.
— Стой, стрелять буду!
— Я те выстрелю, мать твою!..
Осинский выстрелил вверх.
— Ты что, обалдел? Это же я, Снежков, дежурный по полку! — И снова матом.
— Ложись! — крикнул Осинский. — Застрелю, как собаку!
Испугался Снежков. Лег, крикнул:
— Ты, психа! Сейчас же вызывай начкараула!
— Не слышно будет! Пурга! Лежи давай! Сам психа!
Лейтенант Снежков пролежал на снегу лицом вниз довольно долго. Стало совсем темно. Пришла смена. Осинский доложил. Снежков идти пешком отказался:
— Несите меня. Несите прямо в санчасть! А его, сукина сына, на губу! Он меня обморозил!
Осинского отправили под арест. Минут через двадцать привели к командиру полка.
— Что натворил? Докладывай!
Осинский доложил. Подполковник еле заметно улыбнулся, приказал:
— Из-под ареста освободить. Действовал правильно. Все по уставу. Можешь идти! Снежков где? Все еще в санчасти? А ну-ка ко мне его! Живо!
С тех пор Снежков люто возненавидел Осинского.
...Веки слипались. Левка заставил себя широко раскрыть глаза, энергично затряс головой.
«Ну, до чего же хочется спать! Вот горе-то!.. Нельзя спать, нельзя!» — уговаривал себя Осинский. Но глаза слипались, голову тянуло вниз, болела шея. Подбородок то и дело утыкался в грубую, холодную шинель на груди... Как и чеховской Варьке, ему казалось, что лицо его высохло и одеревенело, а голова стала маленькой, словно булавочная головка...
Он снова встрепенулся, больно ударил себя кулаком в бок, в ребра, с силой протер глаза. Казалось, в них насыпали песку.
«Я должен на чем-то сосредоточить внимание, напрячь мысли, что-то начать вспоминать. Иначе точно засну...»
И он вспомнил бой под Тулой, вспомнил, как прямо на пушку двигался танк.
— Танк! — с ужасом закричал кто-то рядом.
Осинский прижался к окуляру прицела, одеревеневшими, дрожащими от волнения руками схватился за маховики.
— Огонь!
Он тут же нажал на спуск. Пушечка резко дернулась назад. Тугой каучуковый наглазник больно ударил в переносицу. Резко запахло пороховым дымом.
— Перелет! Перелет! — в страхе кричит мариец Иван Иванович.
— Прицел семь! — хрипло приказывает командир.
«Бу-бу-бух! Бу-бу-бух! Бу-бу-бух!» — снова и снова бьет пушечка.
Она даже подскакивает на колесах. Но усилия тщетны. Перелет. Перелет. Недолет. Танк приближается. Его длинная пушка, похожая на вытянутый хобот слона, уверенно нащупывает цель.
Новая беда: снаряды кончились.
— В ров! За бутылками! За гранатами!
Из ровика видно, как танк с ходу наваливается на оставленную сорокапяточку и с ожесточением начинает крутиться на пушке, вминает ее в землю...
«Это я не сплю... Так, точно так все и было... Именно так...»
Он на секунду поднимает отяжелевшие веки, видит темную улицу и тут же снова закрывает глаза, отметив с радостью:
«Не сплю... Не сплю ведь... Как тихо на улице... Как много снега... Что это так громко тикает?.. Ах, это мои часы — подарок Сандро Дадеша... Мировой парень!.. Где-то он сейчас? Где Волжанские?.. Володька... Милый Володька... Николай... Марина...»
Он снова прислушивается к ходу часов.
«До чего громкий ход... Небось, вся улица слышит... Верно говорил Сандро: ни у одних часов нет такого хода...»
Он вспомнил, как с силой швырнул гранату, выглянул на бруствер... Целый и невредимый танк двигался прямо на ровик. Раздался вой снаряда, он пригнулся и почувствовал резкий удар в плечо... Сверху посыпались комья снега и земли...
И сейчас он чувствует удар по плечу. По плечу ударяют еще раз, потом начинают трясти...
«Что за чертовщина? Такого тогда не было... Я помертвел тогда, полузасыпанный, полуоглохший... А потом — Москва, госпиталь. Сплю, что ли?.. Нет, не может быть...»
Раскрыть глаза уже нет сил. А за плечо все трясут и трясут... И откуда-то издалека слышится:
— Вот он, ваш любимчик, товарищ лейтенант, полюбуйтесь!..
«...Это говорит Снежков... При чем тут Снежков?.. И Горлунков... Их не было тогда в ровике... Меня сейчас откапывать должны... Их не было тогда...»
Осинского снова трясут за плечо. Он ощущает на лице чье-то дыхание.
— А что ты, ефрейтор, здесь делаешь?
Осинский наконец открыл глаза, увидел Снежкова, Горлункова, начхима, двух писарей.
— Что ты, ефрейтор, здесь делаешь? — ехидно, не скрывая радости, снова спросил Снежков.
Осинский сжал правую руку.
Винтовки не было. Похолодело в груди. Земля заколыхалась под ногами...
Глава II
На собрании
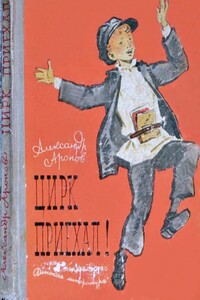
Думал Борька, что красивее и интереснее всего в церкви. Но вот попал он с отцом в цирк, и все перевернулось в его жизни.О том, как пионеры помогли разоблачить тайну церковников, как Борька перестал верить в бога, как он по-настоящему полюбил цирк, и о других веселых и грустных приключениях Борьки и его друзей можно узнать из повести «Цирк приехал!».

Эта книга написана о людях, о современниках, служивших своему делу неизмеримо больше, чем себе самим, чем своему достатку, своему личному удобству, своим радостям. Здесь рассказано о самых разных людях. Это люди, знаменитые и неизвестные, великие и просто «безыменные», но все они люди, борцы, воины, все они люди «переднего края».Иван Васильевич Бодунов, прочитав про себя, сказал автору: «А ты мою личность не преувеличил? По памяти, был я нормальный сыщик и даже ошибался не раз!».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
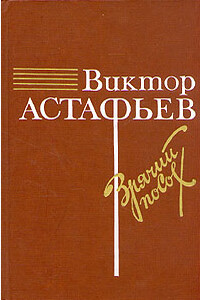
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть «Этот синий апрель…» — третье прозаическое произведение М. Анчарова.Главный герой повести Гошка Панфилов, поэт, демобилизованный офицер, в ночь перед парадом в честь 20-летия победы над фашистской Германией вспоминает свои встречи с людьми. На передний план, оттеснив всех остальных, выходят пять человек, которые поразили его воображение, потому что в сложных жизненных ситуациях сумели сохранить высокий героизм и независимость. Их жизнь — утверждение высокой человеческой нормы, провозглашенной революцией.

Книга прозы известного советского поэта Константина Ваншенкина рассказывает о военном поколении, шагнувшем из юности в войну, о сверстниках автора, о народном подвиге. Эта книга – о честных и чистых людях, об истинной дружбе, о подлинном героизме, о светлой первой любви.
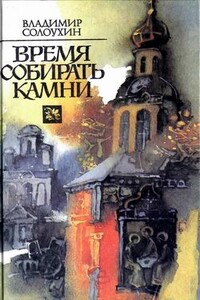
В книгу Владимира Алексеевича Солоухина вошли художественные произведения, прошедшие проверку временем и читательским вниманием, такие, как «Письма из Русского Музея», «Черные доски», «Время собирать камни», «Продолжение времени».В них писатель рассказывает о непреходящей ценности и красоте памятников архитектуры, древнерусской живописи и необходимости бережного отношения к ним.