Парменид - [7]
Парменид. Но может быть, [единое], меняя место и появляясь то здесь, то там, таким образом движется?
Аристотель. Да, если оно действительно движется.
Парменид. А не оказалось ли, что ему невозможно в чём-либо находиться?
Аристотель. Да.
Парменид. И следовательно, в чём-то появляться ещё менее возможно?
Аристотель. Не понимаю, почему.
Парменид. Если нечто появляется в чём-либо, то необходимо, чтобы, пока оно только появляется, оно ещё там не находилось, но и не было бы совершенно вовне, коль скоро оно уже появляется.
Аристотель. Необходимо.
Парменид. Следовательно, если это вообще могло бы с чем-либо произойти, то лишь с тем, что имеет части; тогда одна какая-либо часть могла бы находиться внутри чего-либо, другая же одновременно вне его; но то, что не имеет частей, никоим образом не сможет в одно и то же время находиться целиком и внутри и вне чего-либо.
Аристотель. Правда.
Парменид. А не кажется ли ещё менее возможным, чтобы где-либо появлялось то, что не имеет частей и не составляет целого, коль скоро оно не может появляться ни по частям, ни целиком?
Аристотель. Кажется.
Парменид. Итак, единое не меняет места, направляясь куда-либо или появляясь в чём-либо, оно не вращается на одном и том же месте и не изменяется.
Аристотель. Похоже, что так.
Парменид. Следовательно, единое не движется ни одним видом движения.
Аристотель. Не движется.
Парменид. Но мы утверждаем также, что для него невозможно находиться в чём-либо.
Аристотель. Утверждаем.
Парменид. Следовательно, единое никогда не находится в том же самом месте.
Аристотель. Почему так?
Парменид. А потому, что тогда оно находилось бы в другом месте таким же образом, как в том же самом.
Аристотель. Совершенно верно.
Парменид. Но для единого невозможно находиться ни в себе самом, ни в другом.
Аристотель. Невозможно.
Парменид. Следовательно, единое никогда не бывает в том же самом.
Аристотель. По-видимому, не бывает.
Парменид. Но что никогда не бывает в том же самом, то не покоится и не стоит на месте.
Аристотель. Да, это невозможно.
Парменид. Таким образом, оказывается, что единое и не стоит на месте, и не движется.
Аристотель. По-видимому, так.
Парменид. Далее, оно не может быть тождественным ни иному, ни самому себе и, с другой стороны, отличным от себя самого или от иного.
Аристотель. Как это?
Парменид. Будучи отличным от себя самого, оно, конечно, было бы отлично от единого и не было бы единым.
Аристотель. Верно.
Парменид. А будучи тождественно иному, оно было бы этим последним и не было бы самим собой, так что и в этом случае оно было бы не тем, что оно есть, — единым, но чем-то отличным от единого.
Аристотель. Да, именно.
Парменид. Итак, оно не будет тождественным иному или отличным от себя самого.
Аристотель. Не будет.
Парменид. Но оно не будет также отличным от иного, пока оно остаётся единым, ибо не подобает единому быть отличным от чего бы то ни было: это свойственно только иному, и ничему больше.
Аристотель. Правильно.
Парменид. Таким образом, единое благодаря тому, что оно едино, не может быть иным. Или, по-твоему, не так?
Аристотель. Именно так.
Парменид. Но если оно не может быть иным из-за своего единства, то оно не будет иным и из-за себя самого, а если оно не может быть иным из-за себя самого, то само оно, никак не будучи иным, не будет и от чего бы то ни было отличным.
Аристотель. Правильно.
Парменид. Однако оно не будет и тождественно самому себе.
Аристотель. Почему же?
Парменид. Разве природа единого та же, что и природа тождественного?
Аристотель. А разве нет?
Парменид. Ведь когда нечто становится тождественным чему-либо, оно не становится единым.
Аристотель. Чем же тогда оно становится?
Парменид. Становясь тождественным многому, оно неизбежно становится многим, а не одним.
Аристотель. Правда.
Парменид. Но если бы единое и тождественное ничем не отличались, то всякий раз, как что-либо становилось бы тождественным, оно делалось бы единым и, становясь единым, делалось бы тождественным.
Аристотель. Совершенно верно.
Парменид. Следовательно, если единое будет тождественно самому себе, то оно не будет единым с самим собой и, таким образом, будучи единым, не будет единым. Но это, конечно, невозможно, а следовательно, единое но может быть ни отлично от иного, ни тождественно самому себе.
Аристотель. Да, не может.
Парменид. Итак, единое не может быть иным или тождественным ни самому себе, ни иному.
Аристотель. Конечно, не может.
Парменид. Далее, оно не будет ни подобным, ни неподобным чему-либо ни себе самому, ни иному.
Аристотель. Почему?
Парменид. Потому что подобное — это то, чему в некоторой степени свойственно тождественное.
Аристотель. Да.
Парменид. Но оказалось, что тождественное по природе своей чуждо единому.
Аристотель. Да, оказалось.
Парменид. Далее, если бы единое обладало какими-либо свойствами, кроме того чтобы быть единым, то оно обладало бы свойством быть большим, чем один, что невозможно.
Аристотель. Да.
Парменид. Следовательно, единое вовсе не допускает тождественности ни другому, ни самому себе.
Аристотель. Очевидно, нет.
Парменид. Значит, оно не может быть и подобно ни другому, ни себе самому.
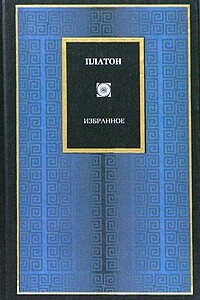
В центре «Апологии Сократа» (392 до н.э.) – первом законченном и дошедшем до нас тексте Платона – проблема несовместимости индивидуальной добродетели и существующего государственного устройства.

В диалоге «Федр» всего два собеседника, мирно сидящих под платанами у почти пересохшей летом реки Илис. Это Сократ и Федр.Тема их беседы напоминает «Пир», хотя здесь нет поисков сущности любви, но зато раскрывается ее неистовая, безумная сторона, ее роль в становлении души на путях блага и в создании подлинной философии, а не пустого красноречия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Диалог "Государство" по своим размерам, обилию использованного материала, глубине и многообразию исследуемых проблем занимает особое место среди сочинений Платона. И это вполне закономерно, так как картина идеального общества, с таким вдохновением представленная Сократом в беседе со своими друзьями, невольно затрагивает все сферы человеческой жизни — личной, семейной, полисной — со всеми интеллектуальными, этическими, эстетическими аспектами и с постоянным стремлением реального жизненного воплощения высшего блага.
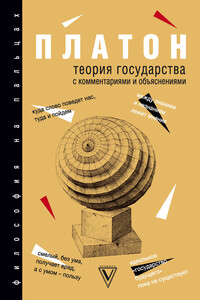
Древнегреческий философ Платон был учеником Сократа, которого высоко чтил, и учителем Аристотеля. Считая, что настоящая философия может существовать только при условии постоянного диалога, Платон и свои произведения написал в такой же форме, сделав главным героем Сократа и вложив в его уста собственные мысли. «Государство» Платона – первая в истории человечества попытка построить модель общества, в котором все были бы счастливы, и модель государства, где каждый бы делал то, что у него лучше получается.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.
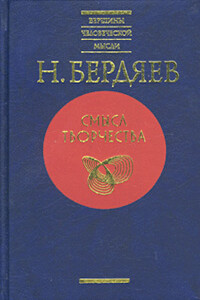
«… Постановка „Бесов“ в Художественном театре вновь обращает нас к одному из самых загадочных образов не только Достоевского, но и всей мировой литературы. Трагедия Ставрогина – трагедия человека и его творчества, трагедия человека, оторвавшегося от органических корней, аристократа, оторвавшегося от демократической матери-земли и дерзнувшего идти своими путями. Трагедия Ставрогина ставит проблему о человеке, отделившемся от природной жизни, жизни в роде и родовых традициях, и возжелавшем творческого почина.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
