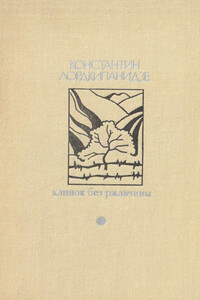В корчме полутемно. Она полна запахов давно не убранных углов, старых хомутов и объедков.
Корчмарь Падило шумно прибирал прилавок. Собрался было нести на кухню посуду, но тут до его слуха донеслись слова деда. Недоверчиво улыбаясь, Падило поставил посуду обратно на прилавок так бережно и тихо, точно находился у изголовья больного: сказка понравилась. И тоже направился в угол, туда, где сосредоточенная тишина казалась еще тише от шамкающего голоса деда.
— ...Средний пожелал коня. Привели ему необъезженного, да такого, что, как встанет на дыбы, — головой до неба достанет. И вот предстал перед богом меньшой брат, кривой да коренастый, как дубовая ступка. Вот бог и говорит: «Чем тебя, человече, пожаловать?» — «Мне бы землицы, — отвечает, — сколько потянет последний мой глаз». Усмехнулся про себя бог:«Экий простак! Желать — и то сил нет». И приказал бог своим апостолам подать весы. Вынул тот горемыка единственный свой глаз и бросил на чашку весов. И чуть-чуть дрогнула чашка. «Да тут и горсть земли перетянет», — подумал бог и пожалел ослепшего мужичка. Посоветовал ему пожелать чего-нибудь получше. А тот: «Не хочу!» — говорит, упрямится. «Будь по-твоему», — согласился бог и молвил апостолам...
Дед Рухло потянулся к стакану, поднял его на свет и сокрушенно поставил назад: стакан давно был пуст, и Рухло хитрил, напоминал слушателям, что надо бы порадовать деда полным стаканом. Но его слушателей этим не проймешь, они упорно не замечают терзаний старика.
— А дальше? — нарушает тишину чей-то нетерпеливый голос.
Дед Рухло открывает вечно слезящиеся глаза.
— Дальше? — раздраженно переспрашивает старик Рыгора Турбаля.
Это он, Турбаль, продал вчера в Мозыре два воза картошки, а сегодня и на стопку не расщедрится для деда.
Внезапно Рухло хватается за поясницу.
— Ой, ой, разломило всего! Полезу на печь, а то не пришлось бы вам, прости господи, гроб мне сколачивать... — кряхтит старик, встает и неторопливо тянется за клюкой.
— За сердце забрала сказка-то, — смущенно улыбается вихрастый Грабко.
Дед лукавит, что и говорить, но у Грабко велика охота дослушать сказку. Грабко напряженно слушал деда, то и дело вытирая о колени потные ладони. Ему по душе одноглазый. Он смутно чувствует, что этот чудак норовит обмануть бога. Грабко чинно раскрывает кошель и бросает медяк на прилавок. И корчмарь уже семенит за стойку. Вот и разливается белый огонь по дряхлому телу деда, гонит по жилам стылую кровь, игриво щекочет в голове, а охоты говорить у него хоть отбавляй. И корчма снова полна его сказок, древних, как он сам.
— ...И молвил апостолам, — продолжает Рухло. — «Не хочу обделить этого болвана, чего там взвешивать, — подарите ему каждый по горсти земли и отпустите с миром на все четыре стороны». А меньшой головой мотает, не соглашается с богом. «Взвесьте», — говорит.
— И впрямь болван, — улыбнулся молодой Папавец, приказчик мозырского железоторговца.
Лицо у Папавца от частого общения с сивухой иссиня-багровое, точно старое, потертое голенище.
Каждое лето Папавец наезжал в деревню — все высматривал невесту побогаче. Появлялся обычно под Иванов день, звеня в карманах ворохом дешевых колечек и брошек. Разошлет свах, а сам засядет в корчме и пьет, да так, что трезвым бывает за целые сутки только поутру и то минут десять, пока натянет сапоги, а там снова за стойкой очутится. А между тем свахи возвращались с отказом, бумажник пустел, и горе-жених заканчивал свой отпуск у вдовы Гончара. Она была необъятна, как добрый стог сена. Папавец сыпал в широкий подол Гончарихи потускневшие кольца и брошки, отводил душу в ее жарких объятиях.
Дед недолюбливал Папавца. Прошлой зимой, когда деревенская молодежь сняла его хату под посиделки, приказчик засиживался до утра и все увивался за его молодой снохой. Единственный сын деда был на войне. И каждое письмо солдата дышало тревогой за жену.
Этим летом Папавец дольше задержался в деревне, все ночи просиживал на завалинке у Рухло, и его наглые пьяные песни будоражили собак всего околотка.
Заслышав в корчме его ненавистный голос, дед Рухло поднял голову и покосился в сторону Папавца.
Вдруг лицо деда все сжалось, задвигались губы под порыжелой, прокуренной щетиной. Сухопарое, согнутое, как серп, тело затряслось — дед смеялся. Потом опустил веки — невмоготу старику долго глядеть в чужие глаза: слеза набегает.
Долгое и беззвучное хихиканье деда раздражает Грабко. Примостившись поудобнее на перевернутом седле, он никак не дождется конца сказки.
— Не мешай! — злится он на Папавца.
И снова тает в тишине шамканье деда:
— ...Рассердился бог на непокорного брата: «Взвесьте, коли так, да смотрите, ни крупицы не давайте лишней». Сгреб один апостол горстку земли и высыпал на другую чашу. Как бы не так! И на волос не подалась стрелка весов. Добавили... Еще горстку, еще... Хоть бы что! Точно муха села. И все двенадцать апостолов двенадцать дней и ночей бросали землю на ту дивную чашку, стараясь перетянуть, но чашка с глазом как припала к земле — точно прилипла. Целые горы земли нанесли апостолы и потом изошли, на ладонях набили мозоли, а крохотный глазок никак не осилить.