Пан Халявский - [52]
Так вот вам и банкет! Вот вам и званый обед! Мы располагали сейчас ехать домой, чтобы утолить голод, мучащий нас. Могли ли мы, можно сказать, купавшиеся до сего в масле, молоке и сметане, быть сыты такими флеровыми кушаньями. Вот с того-то времени начал портиться свет. Все начали подражать господину полковнику в угощеньи, и пошло везде все хуже и хуже…
Пожалуйте же, еще не все! Как мы собираемся уехать, а тут полковник подписал какую-то бумажку и, отдав ее Тумакову, сказал нам: "Ну, молодцы! поздравляю вас царскими солдатами! Я знал, что ваша мать ни за что не согласится отпустить вас в службу, так я обманом вас залучил к себе. Ваш отец… (отец! что бы сказать батенька? да он и маменьку нашу величал просто — матерью) ваш отец был мне друг, и я, умирающему ему, дал слово спасти вас от праздной и развратной жизни, в которую вы уже вдались и от которой погибли бы. Ступайте теперь служить. Ты, Петруша, если постараешься, будешь человеком, — так мне кажется. Учись скорее службе и будь в ней исправен. А ты, брюхан (сказал он мне: правда, что у меня, по маменькиному попечению, пузко было порядочное, всегда их утешавшее), матушкин сынок, с тобою много хлопот будет. Но я тебя написал к такому капитану в роту, что тебя вышколит. Вот приказ. Тумаков, отправь их сего же дня по ротам, обмундировавши как должно".
Не знаю, если бы это вместо меня да были маменька и если бы это их определили в службу, они бы непременно сомлели. Я сам, бывши мужского пола, услышавши такое страшное назначение, чуть-чуть не свалился с ног. В первое мгновение я не подумал, что мне должно делать: отпрашиваться ли у полковника, чтобы он перестал гневаться на меня и не отдавал бы меня в службу, или заупрямиться и отбиваться руками и ногами и кричать изо всех сил, что не хочу. Прежде, нежели я приступил к этим средствам, прежде, нежели решился на что-нибудь, прежде, нежели опомнился, как Тумаков схватил меня за плечо, да так больно! вдруг поворотил к воротам и почти потащил меня за собою, потому что ноги мои, от расстройства головы, совсем не могли двигаться…
Когда я вышел из квартиры, воздух меня несколько освежил, и я собрался с мыслями, что мне должно было делать в такой крайности. Я начал плакать, реветь, призывать "а помощь маменьку, бабусю… и всех, кого только мог из домашних вспомнить… Как жестокий мой, — точно «руководитель» (он чувствительно вел меня за руку, смеясь над моим страданием), до того забылся и так сделался дерзок, — против кого же? — против урожденного, благородной крови Халявского, — что начал меня толкать под бока, чтобы я шел скорее. Каково мне было все это терпеть, уж верно не от благородного, а от простого, подлого роду Тумакова и одетого по-солдатски! Увы! — скажу и я, как говаривал английский милорд Георг в прекрасно написанной им истории своей…
Что я перечувствовал и как жестоко перестрадал, пока саженей через двадцать перетащили меня и ввели в какую-то избу, где все были солдаты. Я полагал наверное, что тут меня зарежут, застрелят, потому что видел тут много стоящих в углу ружей, шпаг или сабель — не знаю чего, а только все страшное… Но вместо того, когда Тумаков проговорил что-то по-своему, по-солдатски, вдруг меня схватили, посадили и, когда я еще не собрался с духом, как отпрашиваться, они меня остригли, взъерошили лавержет — да и больно мне было, если правду сказать!.. Потом. — тот за руки, другой за ноги, и таким образом вдвинули меня в полный солдатский мундир. Тумаков дал двум солдатам какую-то бумагу и сказал: "С богом, сей же час!" Эти страшные усачи схватили меня под руки и таким побытом повели меня с собою.
Куда же повели меня? Прямо в поход за пятнадцать верст от того селения, где квартировал господин полковник! Меня, пана подпрапоренка Халявского, записанного в солдаты, одетого, как настоящего солдата, обедавшего весьма за скудным обедом, не полдничавшего… и повели пешком пятнадцать верст!!!
Привели в роту, под команду какому-то капитану, и начали меня учить службе… Буду же помнить я эту службу!.. Скажу вкратце: чтоб быть исправным солдатом, надобно стоять, ходить, поворачиваться, смотреть не как хочешь, а как велят! ох, боже мой, и о прошедшем вспомнить страшно! Каково же было терпеть?
Как служил и что перенес брат Петрусь, я вовсе не знаю: меня с ним разлучили с самого дома его высокоблагородия, то есть господина полковника; иначе назвать и теперь боюсь, как будто господин капрал подслушивает. А эти мне господа капралы, сержанты, фельдфебели, ефрейторы… Вот беды мне было с ними! Я хотел против них соблюсти всю вежливость и, помня золотые наставления нашего реверендиссиме, гласившего при ударении указательным пальцем правой руки по ладони левой: "когда пожелаете оказать кому благопристойный решпект, никогда не именуйте никого просто, по прозвищу или рангу, но всегда употребляйте почтительное прилагательное: «домине». Вот я и высунулся к своему ближайшему начальству быть вежливым и, вследствие того, при первом случае, отодрал: "домине капрал!" Буду же я помнить этого домине!.. Засмеяли меня, злодеи, на весь полк! Да что! в десяти толстых томах не опишешь, что я переносил от этой службы… А эти господа капралы с товарищами, когда сойдутся, так то и дело жалуются, что я их замучил. Не знаю, кто кого?..
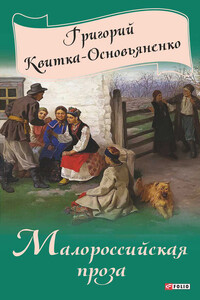
Вот уже полтора века мир зачитывается повестями, водевилями и историческими рассказами об Украине Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), зачинателя художественной прозы в украинской литературе. В последние десятилетия книги писателя на его родине стали библиографической редкостью. Издательство «Фолио», восполняя этот пробел, предлагает читателям малороссийские повести в переводах на русский язык, сделанных самим автором. Их расположение полностью отвечает замыслу писателя, повторяя структуру двух книжек, изданных им в 1834-м и 1837 годах.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».