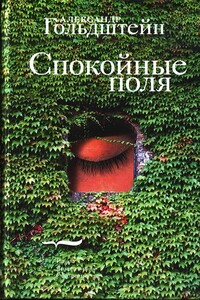Книга Александра Эткинда «Эрос невозможного. История психоанализа в России» обещает много, но слово свое держит плохо. Так мне казалось по мере чтения и перестало казаться по прочтении этой работы — просто ожидания мои располагались в плоскости иной или не вовсе тождественной той, в которой предпочитает помещать свои ответы автор обозреваемого сочинения. «Эрос невозможного» порожден нынешним временем, парадоксально сочетающим две разнонаправленные тенденции, два вектора самопроявления: сильный производительный выплеск и почти повсеместное ощущение усталости и финала. Культуротворческая динамика все больше вытесняется каталогизацией уже накопленных ценностей, их прощальным собирательским оглядом — прежде чем замкнувшийся исторический цикл не будет отделен от нас железным занавесом полного непонимания.
Конкретным выводом из такой ситуации обыкновенно становится эклектика. Это хорошо отрефлексированная эклектика постмодерной эпохи, если угодно, нового александризма, нимало не стыдящегося своей утомленной релятивности — ироничной и грустной, обаятельной и обреченной, с чем все легко примирились. Книга Эткинда — плоть от плоти эклектического времени, и, может быть, в этом главная прелесть и секрет ее не слишком сложного занимательного артистизма. К тому же постмодерное описание, во всем усматривающее возможность игры с затвердевшими смыслами завершенной культуры, очень удачно корреспондирует здесь с природой и судьбой самого объекта запечатления, с его поистине идеальным финализмом: «Психоаналитическая традиция в России была грубо и надолго прервана. Часть аналитиков нашла прибежище в педологии, но и эта возможность была закрыта в 1936 году. Сейчас, уже в самом конце XX века, мы вновь стоим перед задачей, которая с видимой легкостью была решена нашими предками в его начале. Только теперь задача возобновления психоаналитической традиции кажется нам почти неразрешимой».
Идейная поэтика «Эроса невозможного» — безусловный знак времени. И, будучи взятой в этом своем репрезентативном качестве, книга просто взывает к тому, чтобы ее сопоставили с каким-нибудь столь же характерным аналитическим текстом ушедшей эпохи. На мой взгляд, на эту роль претендуют «Очерки по истории семиотики в СССР» Вяч. Вс. Иванова, вышедшие в свет почти два десятилетия назад. Сравнение не является произвольным: люди, создававшие в России то, что впоследствии было названо семиотикой, не могли избежать психоанализа, мимо него вообще никому не удавалось пройти. Труд Иванова напоминает «Илиаду» — его начало и конец условны, это как бы случайный, но также и абсолютно непреложный эксцерпт из героического мифа о становлении, гибели и посмертном возрождении великой науки. Автор находится посреди мифа как его законный адепт и послушник, он погружен в мифологическую истину, а его функция участника-повествователя заключается в непрерывном воспроизводстве и возобновлении этой правды — чтобы костер не погас. Пафос создателя «Семиотики» есть пафос авангардистский. Он предполагает нисхождение в отдаленные шахты и штольни, в глубины утраченного или насильственно вытесненного смысла, в забвенные области немотствующего наследия, дабы они снова обрели первозданную речь. Повествование об этом умолкнувшем языке разворачивается в формах самого языка, а вернее, его новаторских диалектов, и мы, таким образом, становимся свидетелями подлинной драмы идентичности, когда погибшая речь вспоминает себя по ходу своего нового проговаривания, возвращаясь к сознанию и бытию.
Идеология «Эроса» принципиально иная. Здесь нет ни драматургии самостоятельного движения имперсональной мысли, за которой автору нужно лишь поспевать, но которая проявляет себя и без его помощи, ибо эта мысль объективна, ни орфического нисхождения в глубину вослед Эвридике исчезнувшей истины, потому что постмодерн уничтожил различие между поверхностью и глубиной, ни ощущенья себя посреди текста истории в качестве его сотворца, ибо психоанализ в России утрачен и едва ли вернется. Здесь доминирует единственно возможный эрос — эрос рассказывания увлекательных историй. Имманентный и неприступный миф «Истории семиотики», этого памятника надежды на независимость внутри брежневизма, сменяется занимательным беллетризованным повествованием после конца света, ироничным и совершенно безнадежным, ведь финал этой истории слишком хорошо известен уже в самом истоке рассказа, и начинать в который уж раз приходится на пустом месте. И еще одно резкое различие двух сочинений. Книга Иванова к моменту своего выхода в свет представляла собой уже некое общее место — в ней подводились итоги многолетних неофициальных кружковых бесед, и люди, которым в этих беседах приходилось участвовать или о них слышать, уже не могли отнестись к «Семиотике» как к сочинению личному и оригинальному. Напротив того, монография Эткинда — продукт его индивидуального творчества, она не связана с отвердевшей, как общее мнение, кружковой традицией. Этот текст — очень личный.