Память земли - [139]
Если б стенографировать заседания, то весь сельсовет выглядел бы черным, а кристальным лишь Ивахненко. Ведь улыбочки — не криминал. Не криминал и веселенькие сочные глазки, полные превосходства надо всеми. Да в чем он, падло, превосходит?! В беспартийности, которую носит точно орден? Беспартийный директор, беспартийный депутат. Удивительно, как можно даже из беспартийности делать бизнес!
И все же, услыхав деловитый вопрос о жене, Валентин замер. А что, если Ивахненко, видавший-перевидавший баб, объяснит что-то, чего он, Валентин, не знает в женском сердце и вдруг поймет? Может, откроет, что только один он, Валентин Голубов, исключительно один во всем виноват и, значит, немедля ринется за ней хоть на край света, исправит!..
Он осилил волнение. Чтоб не заговорить сразу, кивнул на лежащую в снегу гирю-двухпудовик:
— Играешься?
Ивахненко ухмыльнулся, взялся за чугунное ушко, сперва не дергая, а как бы морально прилаживаясь. Оторвав, качнул меж ногами, подкинул. Гиря кувыркнулась, мелькнула ушком, и Ивахненко с выдохом цапнул на лету наполированное ушко, стал кидать и ловить, ляская ладонью по металлу, словно по голой коже, перехватывая в воздухе с руки на руку. Гладкая, выбритая его шея стала блесткой.
«Трахнуть бы по этой шее! — думал Голубов и спрашивал себя: — А все-таки за что? Ивахненко — диверсант? Нет. Складов не взрывает. Отличный директор молкомбината. Нужен ему аденауэровский режим? Тоже нет. Он и здесь свой. Ему, как амебе, безразлично: Пентагон над ним или сам батько Махно. Была б кормовая среда…»
Ивахненко смачно ляскал по гире, будто доказывая, что освоил здешнюю кормовую среду, что от сытости ему радостно взыгрывать.
Из его подмышек несло жеребятиной, запахи ударяли толчками в ритм движениям. Наконец задержал, бросил гирю — и она боднула лед, оставила вмятую чашу.
— Не вертается жинка? — повторил он и дружелюбно — мужчина мужчине — сказал: — Разве им душа нужна или твоя философия с теорьей? Им, милый сосед, случка нужна. — Он разминался, вздымая руки, открывая дремучую, банно распаренную волосню. — Я любую вткну сюда носом, жиману, чтоб аж затрещала, и безо всяких теорий. Они ж только это и любят, какие б ни интеллигентные.
Валентин растерялся. От растерянности деля с Ивахненко его улыбку, он произнес что-то вроде: «Будь здоров, я пошел». Но Ивахненко, со вкусом пошевеливая на вздохах плотными потными мускулами, заступил дорогу:
— Я до тебя, Егорыч, с реляцией… На завтрашней выплате получать мне собачьи слезы за мой сад. Заактирован-то он как бессортный… Для исправления требуется бумажка, что деревья у меня — элита «мичуринки». — По-свойски доверительно, совершенно открыто и весело он смотрел Валентину в глаза, балагурил: — Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек!.. Так под бумажкой требуются подписи сельсовета, правления, соседей. А ты, Валя, как бог, един в трех лицах: правленец, сельсоветчик, сосед.
Перехватив движение Голубова, быстро, ловко наступил на гирю:
— Не балуй.
— Т-ты… Мне? Мне предлагаешь, сволочь, писать, что у тебя элита «мичуринки», жульничать?..
— Промашку дал, — констатировал Ивахненко. — Думал, баш на баш. Ты мне, я тебе. Но ты, Валентин Егорович, насчет жинки не убивайся. Продолжай утешаться с молодыми колхозницами, что каждую ночь до тебя ходят? Только записывай на память процент комсомолок. Да ты чего нервничаешь? — удивился он, охлопывая подсыхающее тело, пригарцовывая на морозе. — Что ж я, сразу двинусь до Черненковой в партбюро? Или, не подождав и дней двух, поеду в район? Поехать — так ты выговорком, даже с занесением в учетную, разве отделаешься?..
Завтрашнюю выплату наметили в клубе, собирали актив, вывесили лозунги, еще раз прошли по дворам, оповещая жителей, а вечером толкнулся Валентин Егорович в кабинет Любы.
Несмотря на уйму проведенных предвыплатных дел, до сих пор дергало с утра щеку. Еще в обед составил на себя заявление партийному бюро, изложил свои дела по женской части. Писалось трудно. О чем было писать? Что он, когда прижали хвоста, раскаялся? Да не кается ни полграмма! Семьи он рушит, что ли? Или дев дрожащих обижает? Да разведенкам обида, когда их пальцем не тронешь. Вот где кровная обида. А вот что Ивахненко гирей не шмякнул — об этом жалеет!!!
Так и написал. Эх, покалякать бы теперь с Конкиным!.. Но его не было, а выговориться было необходимо. При Степане Степаныче тут, в кабинете, стояла для посетителей обрезанная гильза снаряда — пепельница; теперь на ее месте — баночка с водой, с ветками, набухшими в тепле.
— Я, Люба, закурю, — опускаясь на посетительскую скамейку, сказал Голубов. — Для кого, — спросил он, — мы с тобой бьемся? Для потомков? А поясни мне, какие они, потомки, хотя бы по виду?..
Люба не открывала рот, глядела на Голубова, и он, придерживая пальцем дергающуюся щеку, усмехаясь, сказал:
— Представь тридцатую, например, пятилетку… В розах, в лилиях высится мраморный павильон, и отдыхает в нем потомок моего возраста. Нежный, упитанный. Ведь ни пороха не нюхает, ни беды не глотает никакой. Закинул ногу на ногу и говорит: «Я тебя, Голубов, не просил строить для меня ГЭС. Мне твоя ГЭС до лампочки…» А я, Люба, для этого типа тружусь! А?! Я-то — ерунда, но ведь с древности величайшие ж гении работали на потомков, хотя бы на тот же хутор Кореновский. Верили, что любой кореновец лучше их будет. За Ивахненко жизнь отдавал Галилей, шагал на костер за эту амебу, за паразита этого!
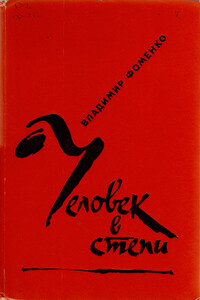
Художественная сила книги рассказов «Человек в степи» известного советского писателя Владимира Фоменко, ее современность заключаются в том, что созданные в ней образы и поставленные проблемы не отошли в прошлое, а волнуют и сегодня, хотя речь в рассказах идет о людях и событиях первого трудного послевоенного года.Образы тружеников, новаторов сельского хозяйства — людей долга, беспокойных, ищущих, влюбленных в порученное им дело, пленяют читателя яркостью и самобытностью характеров.Колхозники, о которых пишет В.

Всё началось с того, что Марфе, жене заведующего факторией в Боганире, внезапно и нестерпимо захотелось огурца. Нельзя перечить беременной женщине, но достать огурец в Заполярье не так-то просто...

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».