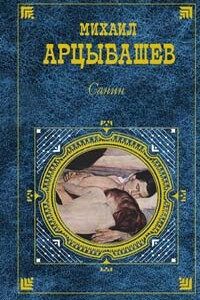Палата неизлечимых - [6]
Он гордо кивнул головой и отвернулся, закрыв прекрасные глаза, будто ему не хотелось смотреть на тусклую, жалкую, бессмысленную картину, которую он видел перед собой.
Четвертый больной шевелил дрожащими губами, усиливаясь найти слова. И вдруг заплакал неожиданно, жалко и беспомощно.
Мальчик испуганно прижался к старику.
— Вот оно… — глухо, но растерянно сказал старик. — Вот оно… без веры-то… что делается… а?
Он беспомощно зашевелил бородой и развел руками, не находя слов, позабыв те, что говорил при этом ужасном последнем плаче.
Долго было молчание. Римлянин лежал с закрытыми глазами, и меж бровями его все не сходила жестокая гордая складка. Мальчик испуганно переводил глаза с одного лица на другое. Тихий плач, жалкий, как у обиженного ребенка, с чуть слышными причитаниями и всхлипываниями, слышался из-под одеяла на четвертой постели.
Старик наконец зашевелился. Он растерянно и как бы виновато посмотрел на всех и нерешительно спросил:
— А что насчет мальчонки-то говорили, а?
Римлянин открыл прекрасные глаза.
— Они говорили, что мальчик выздоровеет, — сказал он и добродушно-иронически улыбнулся.
Старик всплеснул руками.
— Боже ты мой!.. Вот… Наука-то, а?
Новый больной неожиданно громко и нагло захохотал.
III
В палате было темно. Только в углу на железном крюке тускло светился закопченный ночник и от него жуткие тени ходили по стенам. За окнами горели далекие огни другого дома, но между ними и окнами палаты стояла черная непроницаемая тьма.
Все спали. На каждой кровати чернели скорчившиеся неподвижные тела. Четвертый больной тяжко и нудно храпел, и казалось, его храп, как зловоние, наполняет воздух. Старик кашлял во сне, и в его старчески дряхлом покашливании нельзя было узнать того торжественного глухого голоса, который звучал днем. Точно этого громадного, со сверлящими, как бурава, глазами, с огромными рабочими руками и торжественным голосом старика подменили и положили на его кровать дряхлого, страдающего, хлипкого старикашку. Ровно и трудно дышал римлянин, слабо стонал во сне маленький мальчик. И все эти звуки сочетались в странную, жуткую мелодию никому не слышного жалкого страдания.
Только новый больной все так же сидел, неподвижно чернея в сумраке. Также напряженно белела его голая негнущаяся шея и также блестели немигающие глаза.
Днем он все время молчал и, казалось, уже не слушал никого. От завтрака и лекарств, которые прислали доктора, он отказался. Ему предлагали лечь, он не отвечал. Наконец его оставили в покое, и весь день вся палата была подавлена его безмолвным присутствием, точно нечто громадное, непостижимое и зловещее вошло в комнату и придавило всякую жизнь.
Он сидел в глубоком молчании и неподвижности камня. Но если бы кто-нибудь в эту ночь раскрыл его голову и взглянул на мозг, он отпрянул бы в ужасе.
В узкой костяной коробке, наполненной жидким непонятным веществом, в горении которого тайно и непостижимо совершается жизнь, диким хаосом крутились какие-то образы, как бы озаренные зловещим огнем близкого пожара.
Все — солнце, человечество, крутящаяся в неведомом законе цветущая земля, образы нежных и прекрасных женщин, величавые купола храмов и пагод, вершины гордых пирамид, музыка любви, нежная ласка весенних вечеров и очарование лунных ночей и радость солнечных утр, величие звездного мира, борьба народов, темное сладострастие, нагота сплетающихся в невыразимом наслаждении тел, ряды статуй и книг, громы войн, бури океанов и микроскопическая жизнь неведомых телец, болезни, радости, счастье и горе, жизнь и смерть, прошедшее, настоящее и будущее, мечта о далеком светлом рае и образ великого непостижимого Бога, — все в бешеном вихре крутилось в этом маленьком мозгу человеческом, наполняло его хаосом, расширяло хрупкие костяные стенки до пределов бесконечности, и вся вселенная, сдавленная и опоясанная мыслью одного человека, как острым стержнем, пронзалась насквозь:
— Отказываюсь!.. Вне воли моей — отказываюсь!
И в мертвом молчании, в хаосе беззвучной борьбы, где дух гордый и непреклонный вздымался, как скала над бурей океана, сидела эта неподвижная человеческая фигура всю ночь. И до самого рассвета, когда побелели стены и синий холод нового дня встал в палате, все так же блестели неумолимые глаза и ни на йоту не погнулась железная шея.
На рассвете же больной встал, стремительно и твердо прошел к стене, снял ночник, спокойно облил керосином свое белье, волосы и халат, со звоном отбросил стекло и слабым желтым огоньком поджег себя.
Огненным столбом, в черном дыму клубами бешено закрутившимся к потолку, вспыхнул живой факел и зловещим багровым светом безумно ярко осветил всю палату, заблестевшие окна, смятенные, кричащие и мятущиеся человеческие фигурки с жалкими, полными ужаса и отчаяния лицами.
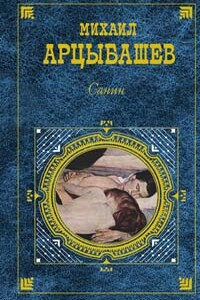
Михаил Арцыбашев (1878–1927) — один из самых популярных беллетристов начала XX века, чье творчество многие годы подвергалось жестокой критике и лишь сравнительно недавно получило заслуженное признание. Роман «Санин» — главная книга писателя — долгое время носил клеймо «порнографического романа», переполошил читающую Россию и стал известным во всем мире. Тонкая, деликатная сфера интимных чувств нашла в Арцыбашеве своего сильного художника. «У Арцыбашева и талант, и содержание», — писал Л. Н. Толстой.Помимо романа «Санин», в книгу вошли повести и рассказы: «Роман маленькой женщины», «Кровавое пятно», «Старая история» и другие.

Психологическая проза скандально известного русского писателя Михаила Арцыбашева, эмигрировавшего после 1917 года.
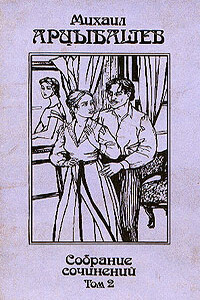
После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.
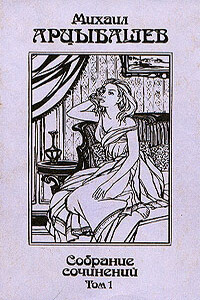
После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

Рассказы о море и моряках замечательного русского писателя конца XIX века Константина Михайловича Станюковича любимы читателями. Его перу принадлежит и множество «неморских» произведений, отличающихся высоким гражданским чувством.В романе «Два брата» писатель по своему ставит проблему «отцов и детей», с болью и гневом осуждая карьеризм, стяжательство, холодный жизненный цинизм тех представителей молодого поколения, для которых жажда личного преуспевания заслонила прогрессивные цели, который служили их отцы.

Книга одного из самых необычных русских писателей XX века! Будоражащие, шокирующие романы «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Сашка Жегулев» Л Андреева точно и жестко, через мистические образы проникают в самые сокровенные потемки человеческой психики.Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.В книгу вошли известные романы Л.Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.