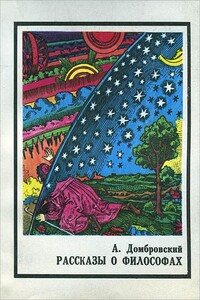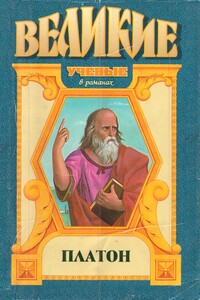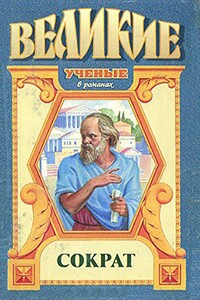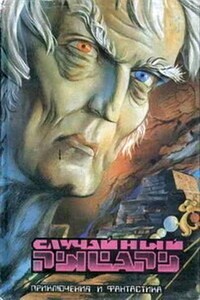Понимая двусмысленность пришедших ему на ум слов, Лукашевский все же подумал, что вот и пришел конец его земным мытарствам: теперь — море, простор, свобода. И одиночество. Как избавление от суеты, как награда… Гибельность суетной жизни в том, что мысль не достигает желаемого предела, потому что стреножена и вынуждена шарахаться от края пропасти, через которую не может перескочить. Но истина там, за пропастью, на другой стороне. Эта пропасть страх ожидания, липкая патока пустых наслаждений — словом, суета. Ничего не удается додумать до конца, самое важное откладывается на потом, а будучи отложенным, уже не кажется важным, душа становится робкой, цепляется за сиюминутное и, как раненая птица, не может взлететь. А ранят ее собственные страхи, несовершенство, слепота. И вот вместо полета она влачится по пыльным петляющим заячьим тропам…
Яхта — это он сам, его воплощенная мечта и воля. И потому он чувствует себя с ней единым целым. Она — его продолжение в пространстве, его возросшая мощь, новая степень свободы, способность "идти по морю, аки посуху…"
Его стало сносить к берегу. Лукашевский переменил галс, взял мористее. Стая чаек, летевшая куда-то по своим делам, завидев яхту, вдруг круто изменила курс и пошла впереди, словно лоцман, дружески покрикивая и похохатывая.
Это свое желание он назвал черным, несчастным, но оно было непреодолимо желание предстать перед Рудольфом, убившим его на кургане. Лукашевский не знал, что Рудольфа на маяке нет. Да и как он мог знать об этом? Яковлев же сказал ему, что Рудольф там. Было ли это его желание встретиться с Рудольфом желанием мести? Конечно. Потому Лукашевский и назвал его черным. А несчастным потому, что оно могло принести ему, Лукашевскому, несчастье. Он с трудом представлял себе, как встретит его Рудольф; ужаснется ли при виде его, сойдет ли с ума, оцепенеет от изумления или просто удивится, пожмет недоуменно плечами, как удивляются чему-то не стать уж неожиданному и странному… Или закричит: "А, так ты еще жив?" — и схватится за автомат? Последнее казалось Лукашевскому наиболее вероятным: душа Рудольфа проста, как камень, и откликается ударом на удар. Но хотелось ему, чтобы Рудольф сошел с ума и доказал бы тем, что он не робот, а человек, что меж людьми бездушных нет. Впрочем, что-то тут не вязалось: убил, как робот, а сошел с ума, как человек стало быть, и убил, как человек, а робот не сойдет с ума. Да, это было несчастное желание и невозможная месть. Он оставит Рудольфу жизнь и жалкий ум, но отнимет у него Александрину. Он причалит к мысу ради нее и Павлуши и спасет их. Но Яковлев сказал, что Александрина и Павлуша ночью тайно покинули маяк. Лукашевский надеялся, что это не так.
Он увидел мыс раньше, чем ожидал: привык плестись на "Эллиниде", а "Анна-Мария" домчала его, как на крыльях. Вышел на траверз милях в трех и лег в фордевинд. Ветер был упругий и напористый. Яхта рванулась, как в гоночном азарте. И если бы Лукашевский не убрал парус, казалось, протаранила бы мыс. Но Лукашевский не только убрал парус, а и повалил мачту, чтобы войти в грот. Причалить к северному спуску он не рискнул: пришлось бы оставить яхту без присмотра на все то время, пока он будет на маяке.
В грот вошел на винтах, включив носовую фару. И еще издали увидел Александрину и Павлушу, которые сидели в шлюпке, причаленной к тупику. Он, кажется, напугал их, потому что они вдруг заметались, пытаясь выбраться из шлюпки. Лукашевский остановил их криком, погасил ослеплявшую их фару и увидел слабый огонь керосиновой лампы, стоящей на корме "Эллиниды".
"Это я, Саша! — сказал он, заглушив двигатель. — Это я — Петр Петрович!"
Сашей он назвал Александрину, хотя прежде никогда не называл ее так.
"Дядя Петя! — радостно закричал Павлуша. — Родной наш дядя Петя!"
Лукашевский прикусил нижнюю губу, чтобы не прослезиться.
Александрина и Павлуша перешли на яхту, в светлую и теплую каюту, уставщие от холода и тревоги.
"Я знала, — плача, повторяла Александрина, — я знала, что вы вспомните о нас, я говорила это Павлуше, я знала…"
Лукашевский дал им успокоиться, напоил горячим чаем из термоса, укутал пледами.
"Что там?" — спросил он Александрину, подняв глаза кверху.
"Не знаю, — ответила Александрина. — Мы ушли ночью, спустились по тайной лестнице".
"Ты знала о ней?"
"Нет. Просто Павлуша однажды за вами шпионил и подглядел".
Лукашевский хотел сказать Павлуше, какой он молодец, но Павлуша, согревшись под пледом, уже спал. Лукашевский, чтоб не разбудить его, заговорил — шепотом: "Я поднимусь на мыс и погляжу, что там".
"Нет! — схватила его за руку Александрина. — Нет!"
"Почему?"
"Не знаю".
"И все же я поднимусь", — сказал Лукашевский твердо.
Он взял батарейный фонарь, спрыгнул на "Эллиниду" и направился к башне. Через несколько минут он вышел из-под башни.
"Есть кто-нибудь живой? — крикнул он, остановившись посреди двора. Встречайте гостя с того света!" — Разумеется, он рассчитывал на то, что его услышит Рудольф, но никто не отозвался. Тишина была мертвой. Вслушавшись в нее, Лукашевский больше не стал звать Рудольфа. Не стал и искать его: такой была эта тишина — пустой, заброшенной, бездыханной.