Ожидание - [81]
— Что он говорит? — спросил санитар Жан.
Я знал, Султан — это «полицай», который у входа в русский лагерь обыскивал всех русских, когда они возвращались из нашего госпиталя. Я объяснил товарищам.
— Спроси у него, может ли он сшить мне ночные туфли. Я ему дам обрезков сукна, — сказал Жан.
Русский, казалось, нисколько не удивился, что я, француз, обращаюсь к нему по-русски. Подумав он сказал, с трудом шевеля губами:
— Нет, не могу. Больной я. Били меня.
— Кто вас бил? — не удержался я, хотя так ясно это было.
— Немцы, — сказал он, взглянув на меня с испугом. Я увидел, как в его темных глазах промелькнуло такое же выражение обиды и страха, как у того русского на полу в мертвецкой. — Работали мы на лесопилке. Человек семьдесят. Приехали офицера ихние с солдатами. А с ними переводчики — наши русские, из власовцев. Стали уговаривать записаться в Р. О. А. Никто не записался. Тогда взяли каждого третьего и тут же у забора расстреляли. Опять велят записываться, а мы твердо стоим, не соглашаемся. Но больше не расстреливали. Бить только стали. И прикладами и сапогами. Все нутро мне отшибли.
Он помолчал и с убеждением сказал:
— Обижают русский народ.
В это время в комнату заглянул невысокий, с бледным молодым лицом человек в русской фуражке и, дотронувшись до его локтя, ласково, но твердо сказал:
— Идемте, Сидоров, сейчас ваша очередь будет.
У этого маленького русского была на рукаве повязка Красного Креста. Я догадался, что это и был Федя, и вышел за ним.
— Простите, это вы — Федя?
— Да, меня Федором зовут. А как вы узнали? — спросил он с детским удивлением.
— Вот мы там устроили закусить вашим докторам. Приходите и вы.
— Нет, спасибо большое, не могу больных оставить, — сказал он мягко, видимо, не желая обижать меня отказом, но без малейшего колебания.
По его осунувшемуся лицу давно голодавшего человека не прошло даже тени сожаления.
Чувствуя, что настаивать бесполезно, я показал глазами на Сидорова, который, будто обдумывая какой-то неотступный мучительный вопрос, стоял теперь, прислонившись к стене.
— Что с ним? Тяжело болен?
— А, этот? Доходяга, — взглянув на него сказал Федя и улыбнулся.
— Что это такое, доходяга — спросил я.
Федя, все продолжая улыбаться, стал с готовностью объяснять:
— А как же, доходяга это тот, кто уже примирился, что помирает. Доходит, значит, не борется за жизнь. У нас так и делятся — на доходяг и шакалов. Шакалы, те промышляют чем-нибудь, или торгуют, или на кухне работают.
— А что он, правда так плох?
Федя с сомнением покачал головой:
— Когда бы другие условия. А то, знаете, теперь немцы наших туберкулезных по новому методу лечат. Если видят, что уже к концу идет, ставят под холодный душ. Радикальное средство…
— Что же, неужели помогает? — спросил я наивно.
— Нет, к утру умирают, — словно с удовольствием сказал Федя.
— Неужели это может быть?
— Ну, как же. Теперь они это даже более культурно делают. А то раньше, когда тиф был, придут полицаи ночью в тифозный барак и всех перебьют бревнами. Наутро — ни одного больного. Немцы рады — эпидемия ликвидирована. И полицаям выгодно. Ведь продовольствие накануне на больных выписывается, вот они лишние порции и делят между собой.
Федя больше не улыбался, но говорил будто с одобрением. «Уж не смеется ли он надо мной?» — подумал я и посмотрел на него пристальнее. Его изможденное, с приятными чертами лицо было чисто выбрито, отчего натянутая на скулах кожа казалась еще прозрачнее. Из-под ворота гимнастерки проглядывала белая полоска подшитого воротничка. По тому, как он держался и как опрятно был одет, чувствовалось усилие сохранить человеческое достоинство. Он смотрел мне прямо в глаза, и в его печальном взгляде было такое же выражение, как у Сидорова и у того русского в мертвецкой.
Я предложил ему папиросу. Он отвел глаза и отказался:
— Спасибо, я не курю.
Я оглянулся. Около двери рентгеновского кабинета, как нищие на паперти, стояли, сидели на полу и лежали на носилках и матрацах русские больные и раненые. Один, скорчившись в углу, совсем еще мальчик, со стриженной ежиком головой, в последний раз жадно и глубоко заглотнув дым, худой, почти прозрачной рукой протянул окурок соседу.
— На, артиллерист, покури, — сказал он, посмотрев острым глазком.
Рассчитав, что хватит на всех, я подошел к ним и роздал бывшие при мне папиросы или сигареты, как говорили теперь русские. Распространяя тяжелое зловоние гниющих ран, они зашевелились, протягивая ко мне иссохшие, коричневые руки. Несколько человек сказали: «Спасибо, друг».
Умирали пленные и в нашем лазарете.
Я иду в барак для заразных. На цементном дворике ни кустов, ни деревьев. И все-таки чувствуется весна. Порывы ветра доносят откуда-то с полей пьянящее благоухание оттаивающей земли. Грудь с наслаждением глубоко вдыхает блаженный свежий воздух.
Теперь я вижу, до чего банально было это чувство. Но это не уменьшало его непосредственности и силы. Больше не было всего страшного и нечеловеческого, что совершалось уже столько лет.
Только торжество весны. Одно из тех мгновений, когда чувство жизни, пусть слепой, безжалостной, но все-таки прекрасной, охватывает с такой силой, что мысли о страданиях людей и неизбежности смерти становятся безразличными.

Последняя книга писателя Владимира Сергеевича Варшавского «Родословная большевизма» (1982) посвящена опровержению расхожего на Западе суждения о том, что большевизм является закономерным продолжением русской государственности, проявлением русского национального менталитета. «Разговоры о том, что русский народ ответствен за все преступления большевистской власти, — пишет Варшавский, — такое же проявление примитивного, погромного, геноцидного сознания, как убеждение, что все евреи отвечают за распятие Христа».

У книги Владимира Сергеевича Варшавского (1906–1978) — особое место в истории литературы русского зарубежья. У нее нет статуса классической, как у книг «зубров» русской эмиграции — «Самопознания» Бердяева или «Бывшего и несбывшегося» Степуна. Не обладает она и литературным блеском (а подчас и литературной злостью) «Курсива» Берберовой или «Полей Елисейских» Яновского, оба мемуариста — сверстники Варшавского. Однако об этой книге слышали практически все, ее название стало невольным названием тех, к числу кого принадлежал и сам Варшавский, — молодежи первой волны русской эмиграции.

Публикуемый ниже корпус писем представляет собой любопытную страничку из истории эмиграции. Вдохновителю «парижской ноты» было о чем поговорить с автором книги «Незамеченное поколение», несмотря на разницу в возрасте и положении в обществе. Адамович в эмиграции числился среди писателей старшего поколения, или, как определяла это З.Н. Гиппиус, принадлежал к среднему «полупоколению», служившему связующим звеном между старшими и младшими. Варшавский — автор определения «незамеченное поколение», в одноименной книге давший его портрет, по которому теперь чаще всего судят об эмигрантской молодежи…Из книги: Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 2010.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
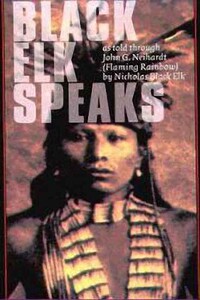
Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».