Ожидание - [133]
А эти трубы на крыше нью-йоркского завода были грязно-бежевые. Неприятное впечатление: не то отростки какого-то окаменелого гада, не то обугленные стволы допотопных деревьев. Сбившись в кучу, они стояли батареей наведенных в небо тяжелый зенитных орудий. Впрочем, если вглядеться пристальнее: завод, как завод. По углам цементированного дворика даже пробивается травка.
Недалеко от завода, на небольшом пустыре, росли три дерева. Сегодня шальной ветер буйно терзал, крутил их ветви. Будто разыгрывая пантомиму горя, сетуя, жалуясь, они кругообразно кланялись вершинами, потом, встряхиваясь всеми листьями, быстро и упруго выпрямлялись и сейчас же опять кланялись, и так без устали, снова и снова.
Обходя мои канцелярии, я старался задерживаться около окон. В те, что выходили на запад, была видна, как на дне горного ущелья, Первая Авеню. За ней, во всей славе своих небоскребов — Манхаттан. Могучие башни Крейслера и Эмпайр-стэт, твердыня Вальдорф-Астории, Рокфеллер-Центр, еще какие-то многоэтажные громады, то кубические, то уступами, как пирамиды ацтеков. У их подошвы — плоские кварталы четырехэтажных домов. По сравнению с этими ничтожными домами еще больше чувствовалась нечеловеческая громадность небоскребов. Из окна тридцать шестого этажа я смотрел на них, как смотришь из самолета на альпийские вершины.
Я нашел в этом каменном царстве те три дерева на пустыре. Как раз их осветило солнце. Меня поразил прелестный цвет их листвы — мягкий, матово-зеленый, как на картинах венецианской школы. Они по-прежнему продолжали свою пантомиму. Я вдруг почувствовал радость. Мне казалось, я подсмотрел жизнь какого-то волшебного мира. Нет, не подсмотрел, а, удивляясь, как я мог забыть об этом, вспомнил, спохватился, что мир прекрасен. Словно я все время по рассеянности жил далеко от моего настоящего существования на земле, а теперь вдруг понял, какое чудо жить. Мне захотелось проверить: не мираж ли это? Нет, любовь к этим деревьям, к зеленому цвету их листвы оставалась. Любовь и радость. Сегодня мне было достаточно только видеть и я не жалел, что эти деревья были вне меня, что я с ними не соединен.
Еще больше я любил останавливаться около окон, что выходили на Восточную реку. На Куинс, на том берегу, было скучно смотреть. Железный мост, светло-коричневая, словно сложенная из детских кубиков церковка. За ней оловянно светлеет не то канал, не то асфальт. Приземистый, жалкий город по сравнению с Манхаттаном. Все какие-то склады, заводы, цистерны, дымят фабричные трубы. Будто вся земля там дышала, дымилась сопками. Проходили облака и цвет столбов дыма менялся. То серые, то ярко белые, то бурые, почти черные, они, клубясь, подымались в небо, бледнея и тая в вышине как призраки.
А на реку никогда не было скучно смотреть. Странно, внутри здания, по сотам канцелярий, сновало столько озабоченных служащих, стучали пишущие машинки и телетайпы, обсуждались в устланных коврами кабинетах важные дела. И все-таки казалось, здесь никогда ничего не происходит. Через одинаковые промежутки времени, я мерным шагом обходил мои канцелярии. Так ходят фигуры на средневековых часах. А на реке все поминутно менялось, жило, двигалось. Сколько маленьких и больших пароходов, буксиров, паромов, барж. Посередине реки — каменным аллигатором дремлет островок. На его черную спину слетались чайки. Чувствовалось, океан совсем близко.
И всегда все по-иному освещено. Один день солнце. Небо почти по-летнему голубое, лишь снизу линялое, почти белое. Но и эта белесина постепенно голубеет. Вода совсем синяя. А на другой день все голубовато-серое и только на юго-востоке лиловая мгла и сквозь эту мглу нежно расцветает розовое сияние. Еще через день весь вид за окном будто внутри огромного хризолита: зеленая река, зеленое небо.
Только во время перерыва на завтрак, я мог смотреть подолгу. К счастью, окна столовой для служащих выходили на восток.
Столовая всегда переполнена. Сплошной гул голосов, звякают ножи и тарелки. Только изредка вдруг отчетливо прозвучат отдельные слова или раскаты смеха. От всего этого шума, от усталости и оранжерейно нагретого воздуха начинала кружиться голова. За усовершенствованным зеленоватым стеклом окон — небо, облака.
Внизу река. Между светлых и будто неподвижных лас стремнина рябит мелкими свинцовыми волнами. Если долго смотреть, начинает чудиться — бетонно-стеклянная, сорокаэтажная громада отплывает в воздушную бездну.
Сегодня я оказался за одним столиком с Джо. Он рассказывал о своем последнем любовном похождении: «когда она разделась, я прямо ахнул, настоящая нимфа!»
Рассеянно взглянув, я вдруг увидел: в окне бесшумно движется большой пароход. Дым из его трубы развевается по ветру гордо и прекрасно. Так развевались перья на шлемах паладинов, так на картине Тициана Карл Первый в золоченых доспехах едет на коне, держа копье наперевес. Билось сердце. Будто духовой оркестр играл там торжественный марш. Но я не мог расслышать. В потустороннем ландшафте за стеклом корма парохода неудержимо, как с экрана волшебного фонаря, ускользала за косяк оконной рамы.
Я стал всматриваться. Пасмурное небо набухло снегом, только на юге, над белыми вершинами облаков, бездонная синева. Все чудесно освещено, одновременно и ярко и туманно. Поперек реки теперь перебивается буксир. Из его высокой трубы всходит в мглистом тумане жемчужно-белый, неземной дым. Потом ветер переменился, дым свалился на бок, стелется почти над самой водой, но вдруг опять взвился и вот обернулся вокруг трубы. Труба стала похожей на танцовщицу с шалью или на тореадора с мулетой. Ветер кружит снежинки.

Последняя книга писателя Владимира Сергеевича Варшавского «Родословная большевизма» (1982) посвящена опровержению расхожего на Западе суждения о том, что большевизм является закономерным продолжением русской государственности, проявлением русского национального менталитета. «Разговоры о том, что русский народ ответствен за все преступления большевистской власти, — пишет Варшавский, — такое же проявление примитивного, погромного, геноцидного сознания, как убеждение, что все евреи отвечают за распятие Христа».

У книги Владимира Сергеевича Варшавского (1906–1978) — особое место в истории литературы русского зарубежья. У нее нет статуса классической, как у книг «зубров» русской эмиграции — «Самопознания» Бердяева или «Бывшего и несбывшегося» Степуна. Не обладает она и литературным блеском (а подчас и литературной злостью) «Курсива» Берберовой или «Полей Елисейских» Яновского, оба мемуариста — сверстники Варшавского. Однако об этой книге слышали практически все, ее название стало невольным названием тех, к числу кого принадлежал и сам Варшавский, — молодежи первой волны русской эмиграции.

Публикуемый ниже корпус писем представляет собой любопытную страничку из истории эмиграции. Вдохновителю «парижской ноты» было о чем поговорить с автором книги «Незамеченное поколение», несмотря на разницу в возрасте и положении в обществе. Адамович в эмиграции числился среди писателей старшего поколения, или, как определяла это З.Н. Гиппиус, принадлежал к среднему «полупоколению», служившему связующим звеном между старшими и младшими. Варшавский — автор определения «незамеченное поколение», в одноименной книге давший его портрет, по которому теперь чаще всего судят об эмигрантской молодежи…Из книги: Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 2010.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.
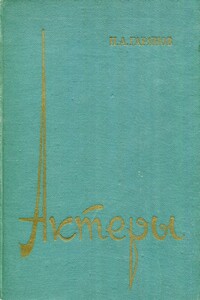
ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.