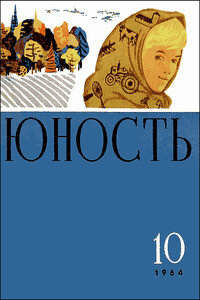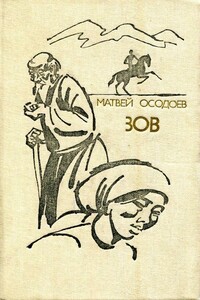И все-таки незаметно втянулся, словно тяжеленный шлагбаум отодвинул, и дорога открылась, и медленно сдвинулся. Чиркал углем, карандашом наброски, прикидывал композиции.
Теперь уж каждый приезд друга выбивал, мешал сильно, вечерние посиделки, ночные купания были как повинность.
Какое счастье, когда они уезжали!
Я так любил этот недоструганный большой дом, резко пахнущий краской, мне так уютно было с молчаливым стариком, который не лез в мои дела, ни о чем не спрашивал. Он много спал, иногда готовил я, помогая ему. Лицо, потерявшее подвижность, маска с живыми, проворными глазами, и проворные же руки, никогда не бывавшие без дела, то картошку чистили, пытались стругать что-то, хотя два пальца не гнулись; иногда он замолкал, я пугался и подходил, видел, лежит с открытыми глазами, дышит.
Иногда я чувствовал за своей спиной: он смотрел с любопытством, с удивлением. Я не люблю, когда глядят из-под руки на работу, но старик был настолько молчалив и я настолько привык к нему, что не раздражался, скучно ему было…
Ни в каких казенных мастерских не было так привольно, как здесь. И впервые я почувствовал тоску по такому вот бревенчатому, просторному, может быть, и скромному, поменьше, но своему дому, далеко от города, и пусть бы он также глядел окнами на реку, пусть бы даже шли дожди, как здесь, но воздух был бы теплый, а река ртутно, подвижно блестела.
Как нужен был бы такой дом. Но я все как-то не думал об этом всерьез, откладывал на потом, ни с чем не хотел связываться до конца, ни от чего не хотел зависеть… Поездки, переезды, встречи, движение к чему-то, затянувшийся переходный период. А к чему движение, к чему переход?
Да и вся жизнь почему-то еще до недавнего времени виделась вступлением, дебютом, а самое существенное, главное вот-вот только начнется… А на самом-то деле уже д а в н о началось и идет, идет вовсю, и уж скоро пойдет на убыль, и тогда тот, второй, последний берег приблизится, станет так четко, так явственно виден: желтый, с какими-то низкими, пожухшими, как после большой жары, растениями, сухо напрягшимися под ртутным движением воды…
Так и жил двойным ощущением. Одно утешающее, обманчивое: вступление, начало, ну если не начало, то середина; а второе — совершенно беспощадно и быстро надвигающийся каменистый берег, без кустарников и деревьев, безжизненный, конечный. Там уж тебе ничего не удастся, потому постарайся что-то успеть сейчас.
Итак, начнем с того, к чему подкрадывался, от чего всегда уходил, начнем с лиц человеческих, живых лиц, с тех глаз, что одновременно и не забыть и не вспомнить. Начнем с самого близкого и потому самого трудного.
Но в этом близком для начала выберем все-таки еще не самое главное, не самое больное, пусть это будет первый подступ к нему… Потому — Нору не надо трогать сейчас. И Борьку тоже, хотя я обязательно должен его написать, давно знаю, что должен, и давно думаю об этом, но сейчас начнем с дальнего, с самого дальнего из всех ближних.
Старик. Вот тот старик из Рыбинска, живой ли? Страшно искать встречи с ним. Скорее всего, почти наверняка… Но почему-то решил с него начать свою серию, словно какое-то механическое, нет, не серию, а цепь характеров, связанных чем-то, увиденных и в пространстве и во времени.
Вот так и этот старик. Я дам его как бы двойным отражением. Его молодые глаза увидят его же — старые. Это будет воспоминание наоборот, вся жизнь между двумя обликами — дистанция в полвека, с какими-то скупыми приметами времени, еще не знаю какими. Они будут гиперболизированы, и в них должна уместиться вот именно эта жизнь, много горя, но, вероятно, и не меньше радости. Для других эта жизнь прошелестела совершенно незаметно и угасла незаметно, ибо она прямо не отразилась во времени, и эпохе, в общей жизни страны, искусства. Она была лишь песчинкой в этом общем движении, но вся тяжесть, все напряжение, все потрясения, время, земля — все отразилось в ней… Замысел. Он для того и существует, чтобы ломаться и меняться.
Не замысел, а первый толчок.
Но если эта жизнь исчезнет — то ничего не изменится, ничто не дрогнет в мире, песчинка не осыпется с крыши, неужели так? Только одна пожилая женщина будет рыдать, несколько людей выразят ей сочувствие, перенаселенное городское кладбище примет еще одно тело, а дальше… Но ведь для чего-то было. И если и забудут его, а может даже не узнают о его конце, все равно он б ы л и перешел в меня, в других, во мне отразился.
И он действительно был и жил, и открыл мне многое, и другим, и пусть забыли, но это уже перешло в других, то, что он знал, то, что он почувствовал… Обратная связь между двумя лицами, двумя обликами одного и того же человека, обратная связь между ним и землей.
Но как? Портрет с двойной экспозицией. Слишком просто. Что-то другое. Не замыкающееся в одном лишь портрете с определенным фоном и с какими-то странными деталями, как любят говорить критики, приметами времени, нет, что-то другое, очень точное по памяти, реальное и вместе с тем хранящее и другую память: память надежд, снов, невысказанных обид — страха перед старостью, может быть, и сознание своей силы, своей бесконечности.