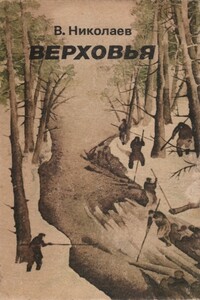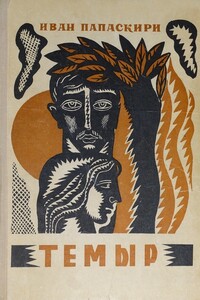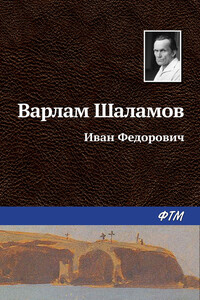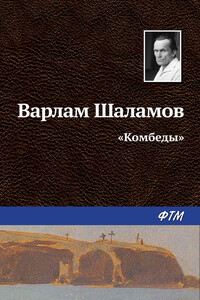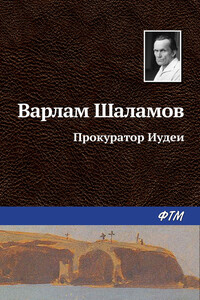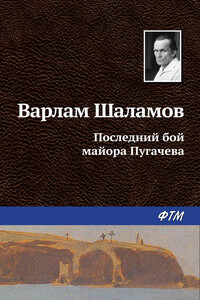Звоню… Звоню. Лакей. «Насчет ожерелья». Выходит сам князь. Выбегает жена. Двадцать лет мне тогда было. Двадцать лет. Испытание было большим. Проба всего, с чем я вырос, чему научился… Надо было решать сразу – человек я или не человек. «Я сейчас принесу деньги, – это князь. – Или, может быть, вам чек? Садитесь». А княгиня здесь же, в двух шагах от меня. Я не сел. Говорю – я студент. Я принес ожерелье не затем, чтобы получить какую-то награду. «Ах, вот что, – сказал князь. – Простите нас. Прошу к столу, позавтракаем с нами». И жена его, Ирина Сергеевна, поцеловала меня.
– Пять тысяч, – зачарованно выговорил волоколамский механик.
– Большая проба, – сказал генеральный секретарь общества политкаторжан. – Так я первую свою бомбу бросал в Крыму.
– Потом я стал бывать у князя, чуть не каждый день. Влюбился в его жену. Три лета подряд за границу с ними ездил. Врачом уже. Так я и не женился. Прожил жизнь холостяком из-за этого ожерелья… И потом – революция. Гражданская война. В гражданскую войну я хорошо познакомился с Путной, с Витовтом Путной. Был у него домашним врачом. Путна был хороший мужик, но, конечно, не князь Гагарин. Не было в нем чего-то… этакого. Да и жены такой не было.
– Просто вы стали старше на двадцать лет, на двадцать лет старше «гаудеамуса».
– Может быть…
– А где сейчас Путна?
– Военный атташе в Англии.
Александр Георгиевич, сосед слева, улыбнулся.
– Я думаю, разгадку ваших бедствий, как любил выражаться Мюссе, следует искать именно в Путне, во всем этом комплексе. А?
– Но каким образом?
– Это уж следователи знают. Готовьтесь к бою под Путной – вот вам совет старика.
– Да вы моложе меня.
– Моложе не моложе, просто во мне «гаудеамуса» было меньше, а бомб – больше, – улыбнулся Андреев. – Не будем ссориться.
– А ваше мнение?
– Я согласен с Александром Георгиевичем, – сказал Крист.
Миролюбов покраснел, но сдержался. Тюремная ссора вспыхивает, как пожар в сухом лесу. И Крист и Андреев об этом знали. Миролюбову это еще предстояло узнать.
Пришел такой день, такой допрос, после которого Миролюбов двое суток лежал вниз лицом и не ходил на прогулку.
На третьи сутки Валерий Андреевич встал и подошел к Кристу, трогая пальцами покрасневшие веки голубых своих, бессонных глаз. Подошел и сказал:
– Вы были правы.
Прав был Андреев, а не Крист, но тут была тонкость в признании своих ошибок, тонкость, которую и Крист и Андреев хорошо почувствовали.
– Путна?
– Путна. Все это слишком ужасно, слишком. – И Валерий Андреевич заплакал. Двое суток он крепился и все же не выдержал. И Андреев и Крист не любили плачущих мужчин.
– Успокойтесь.
Ночью Криста разбудил горячий шепот Миролюбова:
– Я вам все скажу. Я гибну непоправимо. Не знаю, что делать. Я домашний врач Путны. И сейчас меня допрашивают не о квартирной краже, а – страшно подумать – о подготовке покушения на правительство.
– Валерий Андреевич, – сказал Крист, отгоняя от себя сон и зевая. – В нашей камере ведь не только вы в этом обвиняетесь. Вон лежит неграмотный Ленька из Тумского района Московской области. Ленька развинчивал гайки на полотне железной дороги. На грузила, как чеховский злоумышленник. Вы ведь сильны в литературе, во всех этих «гаудеамусах». Леньку обвиняют во вредительстве и терроре. И никакой истерики. А рядом с Ленькой лежит брюхач – Воронков, шеф-повар кафе «Москва» – бывшее кафе «Пушкин» на Страстной – бывали? В коричневых тонах пущено было это кафе. Воронкова переманивали в «Прагу» на Арбатскую площадь – директором там был Филиппов. Так вот в воронковском деле следовательской рукой записано, – и каждый лист подписан Воронковым! – что Филиппов предлагал Воронкову квартиру из трех комнат, поездки за границу для повышения квалификации. Поварское дело ведь умирает… «Директор ресторана „Прага“ Филиппов предлагал мне все это в случае моего согласия на переход, а когда я отказался – предложил мне отравить правительство. И я согласился». Ваше дело, Валерий Андреевич, тоже из отдела «техники на грани фантастики».
– Что вы меня успокаиваете? Что вы знаете? Я с Путной вместе чуть не с революции. С гражданской войны. Я – свой человек в его доме. Я был с ним вместе и в Приморье и на юге. Только в Англию меня не пустили. Визы не дали.
– А Путна – в Англии?
– Я уже вам говорил – был в Англии. Был в Англии. Но сейчас он не в Англии, а здесь, с нами.
– Вот как.
– Третьего дня, – шепнул Миролюбов, – было два допроса. На первом допросе мне было предложено написать все, что я знаю о террористической работе Путны, о его суждениях на этот счет. Кто у него бывал. Какие велись разговоры. Я все написал. Подробно. Никаких террористических разговоров я не слышал, никто из гостей… Потом был перерыв. Обед. И меня кормили обедом тоже. Из двух блюд. Горох на второе. У нас в Бутырках все дают чечевицу из бобовых, а там – горох. А после обеда, когда мне дали покурить, – вообще-то я не курю, но в тюрьме стал привыкать, – сели снова записывать. Следователь говорит: «Вот вы, доктор Миролюбов. так преданно защищаете, выгораживаете Путну, вашего многолетнего хозяина и друга. Это делает вам честь, доктор Миролюбов. Путна к вам относится не так, как вы к нему…» – «Что это значит?» – «А вот что. Вот пишет сам Путна. Почитайте». Следователь дал мне многостраничные показания, написанные рукой самого Путны.