Озёрное чудо - [178]
А парнишкой, бывало, копны на кобыле возил к зароду, а тятька с дедом и матерью метали сено. Иногда верхи едешь, наяриваешь пятками по кобыльему животу, иногда пеши идешь, тянешь за недоуздок Гнедуху, которая жила в хозяйстве… А это уж потом… потом, литовку в зубы — и пошел плечо зудить, пока оно не разойдется, пока солнечные лучи до шершавой сухости не вылижут росу с травы, а тут и мать покличет к балагану чаевать. Отец не погоняет, но сам не присядет, и другим совестно, — надо, кровь из носа надо, к Илье откоситься, потому что до Ильина дня в траве пуд меду, а после — пуд навозу: трава перестоит, посыплет семенем, или — того хуже — зарядят на Авдотью-сеногнотью гнилые дожди, жди потом дожидайся погожих деньков и вороши прелую кошенину.
Парнишкой же, бывало, бредешь низом, и сморенная Гнедуха упирается, машет хвостом, передергивается всей блестящей от пота кожей — пауты донимают, и с натугой тащит копну на волокуше. А босые ноги твои по щиколотку тонут в зыби, а в следы насачивается ржавая вода. Пить охота, но терпи казак, терпи… Ступни режет остро подрубленная трава-отава, пауты кружат перед носом, того гляди, и цапнут окаянные; а под вечер мошка одолевает, тучами кружащая возле тебя и Гнедухи, к тому же поедом едят тебя осатаневшие на вечерней заре комары, и хочется, до слез хочется встать под дымокур из коровьего кизяка. А еще и соленый пот застилает, разъедает глаза, и все же радостно, вольно на душе — тятьке подсобляешь… И кажется, будто тятька лишь то и делает, что смотрит на тебя одобрительно: мол, ишь ты, от горшка два вершка, а уж подмога ладная — путный, однако, парень растет — хозяин, дай ему Бог счастьица. А уж как и в самом деле перепадет тебе ласковый, подмигивающий тятькин взгляд, так в лепешку бы расшибся, абы еще заработать такой. Бегом бы копны возил, сам бы, кажется, припрягся к Гнедухе, лишь бы тятька глянул и с улыбкой покачал головой: дескать, о дает парень, а! И утешно глянуть назад, увидеть, как редеют копешки, как подбирается, светлеет луг, точно изба у хозяйки-чистотки… и дышать все легче и вольнее…»
— Перебор, однако, с деревенским говорком, — размышляет вслух Иван. — Да и кружев наплел — тяжело нынешним читать, с газетами обвыклись… Опять в журнале раздолбают: де, повесть ваша страдает этнографизмом, фольклоризмом и словесным орнаментализмом… — Иван слагает в уме журнальные отказы: вышло, что дюжины две схлопотал, да все из русских журналов, к поганым и носа не совал — дверью прищемят. — Да-а, так и вся жизнь улетит корове под хвост, в сплошной переписке да перезвонке с журналами. А достучишься, одна радость: от ворот поворот, поцелуй пробой и вали домой. Сердобольные интересуются… — тут Иван — одного поля ягода с Иовом Горюновым — передразнил воображенных столичных редакторов: — «Нет ли у вас другой какой… завалящей профессишки?..» — «Есть — дворник, и Бог весть, может, с метлой и завершу грешный век. Лишь бы на метле не улететь…»
Стучит Иван на разбитной машинке, долбит словно неугомонный дятел сухостоину, из железной кружки дует чай, густой и вязкий как смола, чадит крепким табаком и, откинувшись в сладостном изнеможении, блаженно укрыв глаза, томится грешным помыслом: «На той неделе махну в Иркутск, всучу повесть мужикам…может, самому Распутину?., либо сена клок, либо вилы в бок…. Да не-е, какие вилы — ахнут…» Хотя Ивану неведомо, что и отрадней душе: хвала или хула, и уж довременно печалит душу переживание: лишь бы не шибко хвалили, не смущали хвалой, когда знобит, и тело сотрясает мелкая, суетная рябь, а щеки и уши горят нестерпимым полымем, словно деревенская учителка надрала за скоморошьи малахаи, подрисованные большевикам из потрепанной «истории».
Если удуманный Иваном дворник и писатель Иов Горюнов, искореженный бесом зависти, от нищеты и бесславия озлобился и ополоумел, Иван же не унывает, на Бога уповает: у Бога милости много, не как у мужика-горюна. Не-е, Иван не унывает — грех, мягко кружит по дворницкой каморе, мысли скрадывает, слова складывает, гадает, как вершить песнь, чтобы… словно журавли отпели осенины в синем небе…
Снова привиделось сенокосное детство, Иван перекрестил печатную машинку и тронулся с Богом… но взгляд нечаянно сблудил к распахнутому окошку, и писатель всмотрелся сквозь куст боярки — «толком не видать, вечером прорежу куст» — и углядел ромашковый луг у соседнего, свежесрубленного барака и музейную деву Арину Родионову с грудным чадом на руках. Чадушко — в чем мать родила — сучит пухлыми ножонками, машет ручонками, а молодуха, щедро созревшая, густо загоревшая, отчего белый купальник кажется снежным, тискает малого и плывет по тропе к скошенной полянке, где раскинуто пикейное покрывало и согрелась шайка с водой. Молодуха с тарабарным говорком окунула малого в шайку — парнишока радостно загулил, намылила — заревел телком, окатила теплой водицей из кувшина, приговаривая «с гоголя вода, с Пети худоба» — и малый опять залепетал. Укутав парнишонку махровым полотенцем, молодая опустилась на цветастое покрывало, выпростала грудь, и малый жадно приник к сосцу, а как отвалился бутуз, тут и дрема одолела. Раскачивает мать парнишонку на руках словно в берестяной зыбке, подвешенной к потолочной матице, и напевает:
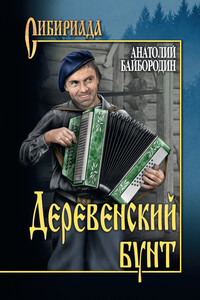
Книги известного сибирского писателя Анатолия Байбородина выходили в Иркутске и в Москве, рассказы и повести печатались в периодике и в сборниках за пределами нашей страны. Читателю нетрудно заметить, что Анатолий Байбородин родом из деревни и воспитывался в стихии народного языка и быта. Он вырос в смешанной русско-бурятской деревне. И как люди в ней дружили и роднились, так роднились и языки. Тут не нарочитость, не приём, а вошедшее в плоть и кровь автора и его героев языковое бытование. Повести и рассказы писателя в основном о родной ему земле, и написаны они с сердечной любовью к землякам, к былому деревенскому укладу, к забайкальской лесостепной, речной и озёрной природе, с искренним переживанием о судьбе родной земли, родного народа.
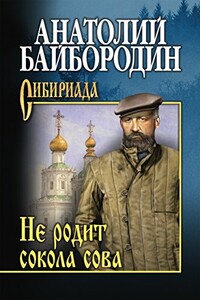
Роман посвящен истории забайкальского села середины ХХ века. Деревенский мальчик Ванюшка Андриевский попадает в жестокий водоворот отношений трех предшествующих поколений. Мальчика спасает от душевного надлома лишь то, что мир не без праведников, к которым тянется его неокрепшая душа.
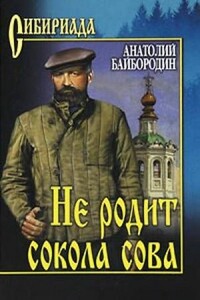
В книгу сибирского писателя Анатолия Байбородина вошли роман "Поздний сын" и повесть "Не родит сокола сова". Роман посвящен истории забайкальского села середины ХХ века. Деревенский мальчик Ванюшка Андриевский попадает в жестокий водоворот отношений трех предшествующих поколений. Мальчика спасает от душевного надлома лишь то, что мир не без праведников, к которым тянется его неокрепшая душа. В повести "Не родит сокола сова" - история отца и сына, отверженных миром. Отец, охотник Сила, в конце ХIХ века изгнан миром суровых староверов-скрытников, таящихся в забайкальской тайге, а сын его Гоша Хуцан отвергнут миром сельских жителей середины ХХ века, во времена воинствующего безбожия и коллективизации.
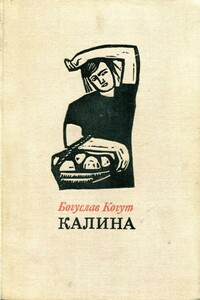
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Обложка не обманывает: женщина живая, бычий череп — настоящий, пробит копьем сколько-то тысяч лет назад в окрестностях Средиземного моря. И все, на что намекает этателесная метафора, в романе Андрея Лещинского действительно есть: жестокие состязания людей и богов, сцены неистового разврата, яркая материальность прошлого, мгновенность настоящего, соблазны и печаль. Найдется и многое другое: компьютерные игры, бандитские разборки, политические интриги, а еще адюльтеры, запои, психозы, стрельба, философия, мифология — и сумасшедший дом, и царский дворец на Крите, и кафе «Сайгон» на Невском, и шумерские тексты, и точная дата гибели нашей Вселенной — в обозримом будущем, кстати сказать.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
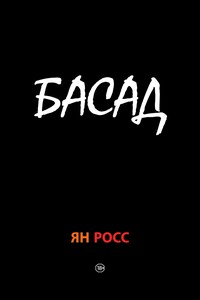
Главный герой — начинающий писатель, угодив в аспирантуру, окунается в сатирически-абсурдную атмосферу современной университетской лаборатории. Роман поднимает актуальную тему имитации науки, обнажает неприглядную правду о жизни молодых ученых и крушении их высоких стремлений. Они вынуждены либо приспосабливаться, либо бороться с тоталитарной системой, меняющей на ходу правила игры. Их мятеж заведомо обречен. Однако эта битва — лишь тень вечного Армагеддона, в котором добро не может не победить.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.