Отверженный - [2]
Я не боялся смотреть, поскольку был уверен, что за мной не подглядывают из-за занавески, как могли, если бы захотели. Но я знал их. Они разошлись по своим пещерам и возобновили свои занятия.
И, тем не менее, я не причинил им зла.
Я не очень хорошо знал город, место моего рождения и первых шагов в этот мир, а затем и всех остальных, столь многочисленных, что я считал, будто все мои следы затерялись, но это было неправдой. Как редко я выходил! Я то и дело подходил к окну, растворял занавески и глядел на улицу. Но вскоре я торопился назад, в глубину комнаты, где стояла кровать. В окружавшем меня мире я чувствовал себя неловким, затерянным в хитросплетении бесчисленных перспектив. Но, если в тот или иной момент был необходим поступок, я знал, что делать. Но сперва я воздевал глаза к небу, туда, откуда приходит спасение, где нет дорог, где бесконечно бродишь, словно в пустыне, где, куда не кинешь взгляд, ничто не ограничивает кругозора, кроме его собственных пределов. В юности я посчитал, что хорошо жить среди равнин, и ушел в Люнебургскую пустошь. Грезя равниной, я ушел в пустошь. Были и другие пустоши, гораздо менее удаленные, но какой-то голос твердил мне: Тебе нужна только Люнебургская. Должно быть, дело заключалось в частичке «люне». Как оказалось, Люнебургская пустошь была в высшей степени неподходящей, в высшей степени. Я вернулся домой разочарованным и успокоенным. Да, не знаю почему, но теперь я никогда не разочаровываюсь, хотя раньше делал это часто, не ощущая при этом, или чуть позже, ни малейшего облегчения.
Я тронулся. Что за походка. Нижние конечности закостенели, будто сама природа отказала им в суставах, ступни же были чудно вывернуты наружу. Словно под воздействием компенсирующего механизма, туловище, как тюк с тряпьем, дико дергалось, подчиняясь непредсказуемым рывкам таза. Я часто пытался исправить эти дефекты — укрепить торс, сгибать колени, шагать прямо, ставя ноги одну перед другой, шагов пять или по крайней мере шесть мне удавались, но финал был всегда одинаковый, т. е. потеря равновесия с последующим падением. Человек должен ходить, не обращая ни малейшего внимания на то, как он это делает — так, к примеру, он дышит. Стоит мне пойти, не обращая на это внимания, получается именно так, как я только что описал, но когда я начинаю обращать хоть чуточку внимания на походку, то мне удаются несколько достойных похвалы мучительных шагов, затем я падаю. Поэтому я решил быть самим собой. Такая манера держать себя появилась, на мой взгляд, хотя бы отчасти, из-за одной склонности, от которой я никак не мог избавиться полностью, и которая, как и следовало ожидать, оставила на мне свой отпечаток в годы моего становления, я имею в виду тот период, что простирается от первых шажков за спинкой стула до 3-го класса, где я завершил образование. У меня была пагубная привычка, описавшись в штаны, или обосравшись, а случалось это достаточно регулярно, рано по утрам около десяти — половины одиннадцатого, упорно продолжать и заканчивать день, будто ничего не произошло. Сама мысль переменить штаны или довериться матери, которая почему-то лишь спрашивала, не требуется ли мне помощь, казалась мне, не знаю отчего, невыносимой, и до тех пор, пока я не ложился спать, приходилось таскаться так: меж ног воняло и жгло, прилипало к жопе — результат моей несдержанности. Отсюда этот подозрительный способ ходьбы — одеревенелые ноги широко расставлены в стороны, а столь отчаянное перекатывание торса без сомнений имело целью отвлечь людей от вони и заставить их думать, что я беззаботен, полон задора и бодрости, а также придать убедительности моим объяснениям негибкости ног, которую я приписывал наследственному ревматизму. Весь свой юношеский пыл, в той мере, в какой он у меня имелся, я растратил в этих попытках. Чуть раньше времени я стал угрюм и недоверчив, полюбил уединенный лежачий отдых. Наивный юношеский порыв, не объясняющий ровным счетом ничего. В таком случае нет нужды в осторожности, можно и дальше рассуждать сколько угодно, занавес даже не шелохнется.
Была чудесная погода. Я двинулся вниз по улице, держась как можно ближе к тротуару. Даже самые широкие тротуары недостаточно для меня широки, когда я прихожу в движение, а мешать прохожим я очень не люблю. Меня остановил полицейский и сказал: Мостовая для машин, для пешеходов тротуар. Словно отрывок из Ветхого Завета. Почти извинившись, я перешел на тротуар и настойчиво продолжил движение там добрых двадцать шагов, несмотря на неописуемую толкотню, пока не был вынужден броситься наземь, чтобы не раздавить ребенка. Я помню, на нем была игрушечная сбруя: он, должно быть, изображал пони или, почему бы нет, клайдсдейльского тяжеловоза. Я бы с радостью его раздавил, ненавижу детей, и это послужило бы ему уроком, но я опасался репрессий. Каждый кому-то родитель, это рушит все надежды. На оживленных улицах следовало предусмотреть специальную дорожку для этих маленьких выродков, их колясок, обручей, сластей, самокатов, коньков, дедушек, бабушек, нянек, шаров и мячей, одним словом — всего их ублюдочного счастья. Тогда я упал и увлек за собой обвешанную блестками и шнурками пожилую даму, она, вероятно, весила около шестнадцати стоунов. Вскоре ее вопли собрали толпу. Я всей душой надеялся, что она сломала бедро, пожилые дамы ломают бедра с легкостью, но с недостаточной. Я воспользовался суматохой, чтобы удрать, бормоча неразборчиво проклятия, как будто жертвой был я, а именно ею я и был, только не мог доказать. Детей никогда не линчуют, младенцы, чего бы они ни натворили, заранее невиновны. Лично я бы их линчевал с превеликим удовольствием, не скажу, что приложил бы руку, нет, я не насильник, но всячески ободрял бы других, а потом выставлял выпивку. Но не успел я начать сматываться, как меня задержал второй полицейский, столь похожий во всем на первого, что я подумал, не тот ли это. Он указал мне, что тротуар предназначен для всех, словом не было ясно, что меня нельзя причислить к этой категории. Может, вы хотите, сказал я, даже не вспомнив Гераклита, чтобы я спустился в сточную канаву? Лезь, куда хочешь, ответил он, но оставь место и для других. Если не можешь, черт тебя двери, ходить как все, сказал он, сиди лучше дома. Точно то же ощущал и я. То, что он приписал мне наличие дома, было немалым утешением. В этот момент, как порой случается, прошла похоронная процессия. Целый шквал шляп и всполохи бесчисленных пальцев. Если бы меня заставили перекреститься, я бы всю душу вложил, чтобы сделать это правильно: нос, пуп, левый сосок, правый. Но по тому, как неряшливо и торопливо они крестились, создавалось впечатление, что их неудачно распяли: коленки чуть ли не под самым подбородком, а руки вообще неизвестно где. Наиболее истовые останавливались и что-то бормотали. Полицейский же застыл по стойке смирно, закрыв глаза и отдал честь. В кебе я мельком заметил плакальщиц, оживленно обсуждавших эпизоды из жизни их дорогого покойного брата во Христе, или сестры. Я вроде бы слыхал, что украшения на катафалке в этих случаях разные, но в чем состоит разница, я так и не узнал. Лошади пердели и орали, будто шли на ярмарку. Я обратил внимание, что никто не встает на колени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
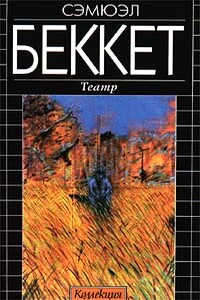
Пьеса написана по-французски между октябрем 1948 и январем 1949 года. Впервые поставлена в театре "Вавилон" в Париже 3 января 1953 года (сокращенная версия транслировалась по радио 17 февраля 1952 года). По словам самого Беккета, он начал писать «В ожидании Годо» для того, чтобы отвлечься от прозы, которая ему, по его мнению, тогда перестала удаваться.Примечание переводчика. Во время моей работы с французской труппой, которая представляла эту пьесу, выяснилось, что единственный вариант перевода, некогда опубликованный в журнале «Иностранная Литература», не подходил для подстрочного/синхронного перевода, так как в нем в значительной мере был утерян ритм оригинального текста.

В сборник франкоязычной прозы нобелевского лауреата Сэмюэля Беккета (1906–1989) вошли произведения, созданные на протяжении тридцати с лишним лет. На пасмурном небосводе беккетовской прозы вспыхивают кометы парадоксов и горького юмора. Еще в тридцатые годы писатель, восхищавшийся Бетховеном, задался вопросом, возможно ли прорвать словесную ткань подобно «звуковой ткани Седьмой симфонии, разрываемой огромными паузами», так чтобы «на странице за страницей мы видели лишь ниточки звуков, протянутые в головокружительной вышине и соединяющие бездны молчания».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Имя великого ирландца Самуэля Беккета (1906–1989) окутано легендами и заклеено ярлыками: «абсурдист», «друг Джойса», «нобелевский лауреат»… Все знают пьесу «В ожидании Годо». Гениальная беккетовская проза была нам знакома лишь косвенным образом: предлагаемый перевод, существовавший в самиздате лет двадцать, воспитал целую плеяду известных ныне писателей, оставаясь неизвестным читателю сам. Перечитывая его сейчас, видишь воочию, как гений раздвигает границы нашего сознания и осознания себя, мира, Бога.