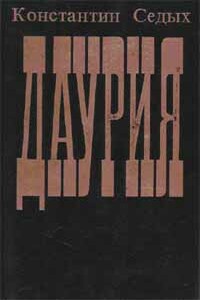Отчий край - [2]
К. Седых хорошо знает сибирскую деревню первых лет советской власти со всеми ее светлыми и теневыми сторонами. Здесь и отношения между только что вернувшимися партизанами и остальной массой крестьянства, и открытие клуба с его первыми ростками культурно-просветительной работы, такой необычной и новой для жителей далекого забайкальского поселка. Здесь и первая свадьба без попа, и первые собрания сельской бедноты, и вселение в кулацкие усадьбы семей, чьи дома пожгли семеновцы.
В центре всех этих сложных бытовых, семейных, классовых отношений сибирской деревни начала 20-х годов стоит фигура Семена Забережного, первого председателя поселкового ревкома. И еще одним выразительным штрихом дорисовывает художник в конце романа образ своего героя. С волнением читаются страницы, рассказывающие о том, как преображается этот суровый и мужественный человек, когда, наконец, и ему улыбнулось запоздалое счастье. С детской наивностью и непосредственностью переживает он свое пылкое увлечение поселковой учительницей. Как одержимый несется он на коне по заснеженному полю, палит из винтовки в воздух, чтобы хоть как-то дать выход нахлынувшему вдруг чувству безудержной радости и счастья.
Колоритные подробности быта и нравов партизан, бесчинства карателей, создание на базе партизанских соединений первой народно-революционной армии прекрасно переданы писателем в сценах и эпизодах, изображающих судьбы и поведение братьев Улыбиных — Ганьки и Романа. Образ Романа в «Отчем крае» интересен прежде всего не столько сам по себе, сколько той обстановкой, в которой ему приходится действовать. Так, хороша сцена ночного передвижения партизан к 86-му разъезду, когда в пургу и темень идут отряды вооруженных людей, преодолевая невероятные трудности. Их валит с ног неистовый ураганный ветер, острая боль разрывает бронхи, и тысячи колючих игл ранят в кровь обмороженные лица. Столь же впечатляют и сцены столкновения с каппелевцами, прощание Романа со своим полком и др.
По-особенному хорош в новой книге образ Ганьки. Рано и нелегко начиналась его молодость. «Словно сорванный с дерева лист, закружило и понесло Ганьку в потоке непонятной грозной жизни», — говорит о нем автор.
Художнику удалось передать и детскую непосредственность Ганьки, и чистые порывы его души, потрясенной ужасами войны, безмерной людской жестокостью. Вспомним, с какой отчаянной решимостью заявляет он Павлу Журавлеву: «Я в обоз не пойду. Я воевать хочу. За отца буду мстить, за доктора Карандаева, за всех наших. Шибко злой я на белых». Он не может равнодушно слышать даже знакомой с детства звонкой пушкинской «Песни о вещем Олеге», когда поют ее семеновцы. В устах белогвардейцев звучала она кощунством. «Ему казалось, — говорит писатель, — что у него украли что-то очень дорогое, подшутили над ним жестоко и коварно». С болью и гневом отзывается он и о японцах, которых, по его словам, «позвал Семенов на нашу голову».
Но, опаленное войной, не ожесточилось и не зачерствело Ганькино сердце. Так же, как и при изображении Романа Улыбина в «Даурии», писатель рисует образ Ганьки в постоянном общении с природой. Молодость заново открывает для себя необъятный мир. «Стояла июньская лунная ночь, полная неизменно новой чарующей красоты. Кусты цветущей черемухи в садах и палисадниках походили на серебряные облака. Мерцали, переливаясь всеми красками, земля и небо». Это расцветающая молодость Ганьки, полная сладких предчувствий и неясного томления. «Он томился и не знал, чего хотела его душа От резкого запаха черемухи сладко кружилась голова, беспокойно стучало сердце. Залитая лунным светом улица, казалось, тонула в голубом прозрачном дыму, который мерцал и струился».
Так свершается извечный круговорот жизни. Его не могут остановить ни горечь от сознания невозвратимой потери родных и близких, ни думы о смерти. В романе есть удивительная в этом отношении сцена. Ганька с матерью — на кладбище, где лежит зарубленный карателями его отец.
«Они остаются, а я ухожу, — думал он про отца и деда. — Завтра, и через год, и через десять годов я буду видеть это солнце, эту землю, а они не увидят больше ничего… Горчайшей жалостью переполнилась его душа, но в то же время он глядел вокруг и с эгоизмом молодости радовался, что живет, видит и еще долго-долго будет видеть залитые солнечным ливнем благословенные навеки просторы отчего края».
3
Интересно и своеобразно решена в книге К. Седых судьба бывшего поселкового атамана Елисея Каргина. Писатель прослеживает во всех подробностях сложные и мучительные поиски этим человеком своего места в жизни, в развернувшейся ожесточенной борьбе. Судьба его драматична. В метаниях Каргина отразились по-своему настроения тех слоев сибирского середняцкого казачества, перед которыми революция властно ставила задачу — сделать свой окончательный выбор. Образ Каргина, как и судьба его, наглядно свидетельствовали о тех действительно сложных противоречиях эпохи революционной ломки, которые не укладывались ни в какие заранее придуманные схемы.
Революция безжалостно разрушила его привычную, устоявшуюся жизнь поселкового атамана, и вот в годы гражданской войны Елисей Каргин оказывается на распутье. Вначале он не прибивается решительно и твердо ни к тому, ни к другому берегу. С обострением борьбы он против своей воли, самой логикой вещей втягивается в стремительный вихрь событий. Так Каргин примыкает к белогвардейскому лагерю, становится во главе белой дружины. Но он никак не мог примириться ни со зверскими порками, ни с пытками и расстрелами. «Расстрелами и порками, — говорит он, — мы сами плодили партизан, и я не хотел быть карателем».
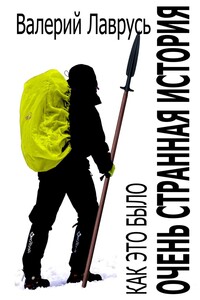
Попаданец Юра Серов познакомился со странными профессорами-историками и попал в историю. В очень странную историю, где реальность переплетается с вымыслом, а вымысел так и норовит стать неоспоримой истиной. Как разобраться? Как понять, что в Истории ложь, а что — правда? Как узнать, где начинается сказка, а где она заканчивается? Просто! Надо поставить мысленный эксперимент!
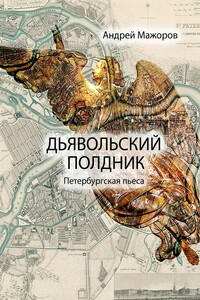
4833 год от Р. Х. С.-Петербург. Перемещение в Прошлое стало обыденным делом. Группа второкурсников направлена в Петербург 1833 года на первую практику. Троицу объединяет тайный заговор. В тот год в непрерывном течении Времени возникла дискретная пауза, в течение которой можно влиять на исторические события и судьбы людей. Она получила название «Файф-о-клок сатаны», или «Дьявольский полдник». Пьеса стала финалистом 9-го Международного конкурса современной драматургии «Время драмы, 2016, лето».
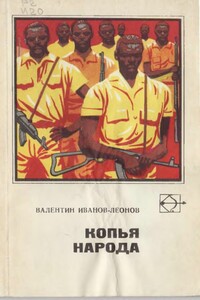
Повести и рассказы советского писателя и журналиста В. Г. Иванова-Леонова, объединенные темой антиколониальной борьбы народов Южной Африки в 60-е годы.
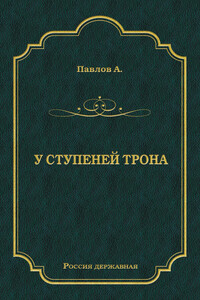
Александр Петрович Павлов – русский писатель, теперь незаслуженно забытый, из-под пера которого на рубеже XIX и XX вв. вышло немало захватывающих исторических романов, которые по нынешним временам смело можно отнести к жанру авантюрных. Среди них «Наперекор судьбе», «В сетях властолюбцев», «Торжество любви», «Под сенью короны» и другие.В данном томе представлен роман «У ступеней трона», в котором разворачиваются события, происшедшие за короткий период правления Россией регентши Анны Леопольдовны, племянницы Анны Иоанновны.

Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.

Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.