От противного. Разыскания в области художественной культуры - [8]
Оставляя в стороне вопрос о релевантности теории хаоса для культурно-исторических штудий, скажу, что rewriting, бесспорно, служит индикатором, оповещающим о достижении какой-либо системой текстов критического порога в большом (межсистемном) времени или в ее собственном поэтапном развертывании (так, метафикциональная «Охранная грамота» (1929–1931) Пастернака вышла в свет на переломе от раннего авангарда к авангарду второй волны[48]). Однако такое финалистское письмо – частный случай в переходах от предыдущей фазы культуры к новой и потому подлежит интерпретации под более общим углом зрения. Диахронические ансамбли смысла приближаются к пределу тогда, когда в них убывает энергия замещения, что выражает себя разными способами – в том числе в завоевании здесь господства автосубституированием, отдающим себе в том отчет в качестве метафикционального творчества либо осуществляемым безотчетно – в виде эпигонства (каковым – вслед за Ницше («Человеческое, слишком человеческое», § 148, 179) и Максом Нордау – чрезвычайно интересовались русские формалисты). Подобного рода концовка эпох – попытка спасти прежде добытое вопреки убыванию трансформационной мощи, бывшей в распоряжении некоего смыслообразующего принципа. Наряду с этим культурно-исторические периоды манифестируют иссякание своих возможностей и в абсолютизирующих завершаемость мыслительных жестах. Философия романтизма дорастает до финальной кульминации не только в идее всепобедительного у Гегеля самосознания, но и в той безнадежности, которой опустошались у Шопенгауэра как vita activa, так и vita contemplativa. Противостояние двух названных стратегий повторяется по ходу истории. Отзываясь на крах символизма в «Переписке из двух углов» (1920), Михаил Гершензон требовал вовсе отречься от «умственного достояния человечества» ради приобщения «подлинной реальности»[49], тогда как споривший с ним Вячеслав Иванов утверждал, что «все живое хочет не только самосохранения, но и самораскрытия»[50], и отстаивал, исходя из этого, культ памяти и веру во «все постигающий возврат»[51].
Начальные отрезки эпох отмечены гипертрофией замещающего, которое обесправливает замещаемое, оказывается более или менее самодостаточным, не нуждающимся в мотивировании извне. Субъектное берет власть над данным, объективируется, предстает как само по себе предрасположенное к созидательности – не важно, какой образ оно принимает в разные времена: сверхъестественного существа, творящего космос ex nihilo; мыслителя, преодолевающего несовершенство чувственного восприятия посредством умственных операций (что было исходным пунктом в раннебарочной философии Декарта); несчастного влюбленного, в чьих письмах к возлюбленной вдруг формируется «слог», обнаруживается способность их отправителя к литературному труду (так – в «Бедных людях» Достоевского, одном из первых текстов русского реализма), или поэта-авангардиста, воплощающего собой будущность всего мира. Становящийся постмодернизм придал этой инициационной ситуации парадоксальные черты: субъектное объективируется и здесь, но не в креативном покорении действительности, а в своей агонии – в смерти человека, объявленной Фуко, с которым солидаризовались многие из современных ему философов.
Преобладание субститута над субституируемым ведет к тому, что связь между тем и другим стирается, делается несущественной (несмотря на существование). Полноценная значимость достается тогда термам – номинация оттесняет предицирование в его обоснованности на задний план, будь то случай Адама, которому доверена миссия называть вещи, либо футуриста, увлеченного словотворчеством и помимо референции. Нехватка когерентности равно характеризует как архаический миф, рассказывающий о ничем не объяснимых превращениях живой и неживой природы, так и только что возникшее киноповествование, распадающееся на слабо объединенные между собой эпизоды – «аттракционы»[52].
На закате эпох гипертрофия замещающего уступает место преувеличению той ценности, которая приписывается замещаемому. Историко-культурный рывок вперед тормозится, потому что диахроническая система стремится выявить свое основание, совершает мертвую петлю, захлестывающуюся на предпосылках когда-то бывшего новым символического порядка. Этот процесс не сводится лишь к метапозиционированию авторского сознания в позитивном либо негативном (катастрофическом) варианте. Сверх того внутрифазовая динамика прокладывает себе путь от операционализма к онтологическому фундаментализму, являющему себя на исходе барочного XVII столетия в «Теодицее» Лейбница, а при сдвиге от авангарда-1 к авангарду-2 в философии Хайдеггера и у вдохновленных ею позднейших мыслителей. Формальная школа эволюционировала от изучения «приемов» словесного искусства к рассмотрению «литературного быта», на чем литературоведение задержалось, однако, не слишком долго, обратившись к карнавалу, истолкованному Михаилом Бахтиным как modus vivendi народного тела, как предпочтение, которое оно отдает бытию перед каким бы то ни было идеологизированием.
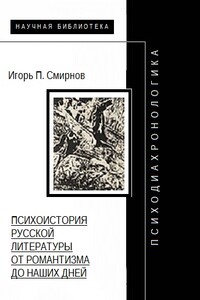
Читатель обнаружит в этой книге смесь разных дисциплин, состоящую из психоанализа, логики, истории литературы и культуры. Менее всего это смешение мыслилось нами как дополнение одного объяснения материала другим, ведущееся по принципу: там, где кончается психология, начинается логика, и там, где кончается логика, начинается историческое исследование. Метод, положенный в основу нашей работы, антиплюралистичен. Мы руководствовались убеждением, что психоанализ, логика и история — это одно и то же… Инструментальной задачей нашей книги была выработка такого метаязыка, в котором термины психоанализа, логики и диахронической культурологии были бы взаимопереводимы.

Что такое смысл? Распоряжается ли он нами или мы управляем им? Какова та логика, которая отличает его от значений? Как он воплощает себя в социокультурной практике? Чем вызывается его историческая изменчивость? Конечен он либо неисчерпаем? Что делает его то верой, то знанием? Может ли он стать Злом? Почему он способен перерождаться в нонсенс? Вот те вопросы, на которые пытается ответить новая книга известного филолога, философа, культуролога И.П. Смирнова, автора книг «Бытие и творчество», «Психодиахронологика», «Роман тайн “Доктор Живаго”», «Социософия революции» и многих других.

Подборка около 60 статей написанных с 1997 по 2015 ггИгорь Павлович Смирнов (р. 1941) — филолог, писатель, автор многочисленных работ по истории и теории литературы, культурной антропологии, политической философии. Закончил филологический факультет ЛГУ, с 1966 по 1979 год — научный сотрудник Института русской литературы АН СССР, в 1981 году переехал в ФРГ, с 1982 года — профессор Констанцского университета (Германия). Живет в Констанце (Германия) и Санкт-Петербурге.
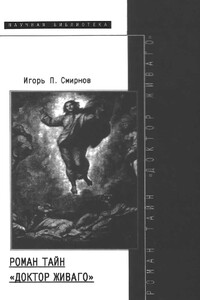
Исследование известного литературоведа Игоря П. Смирнова посвящено тайнописи в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» Автор стремится выявить зашифрованный в нем опыт жизни поэта в культуре, взятой во многих измерениях — таких, как история, философия, религия, литература и искусство, наука, пытается заглянуть в смысловые глубины этого значительного и до сих пор неудовлетворительно прочитанного произведения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
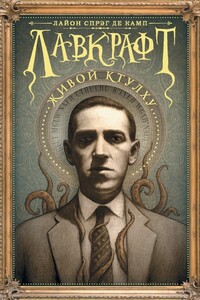
Один из самых влиятельных мифотворцев современности, человек, оказавший влияние не только на литературу, но и на массовую культуру в целом, создатель «Некрономикона» и «Мифов Ктулху» – Говард Филлипс Лавкрафт. Именно он стал героем этой книги, в своем роде уникальной: биография писателя, созданная другим писателем. Кроме того многочисленные цитирования писем Г. Ф. Лавкрафта отчасти делают последнего соавтором. Не вынося никаких оценок, Лайон Спрэг де Камп объективно рассказывает историю жизни одной из самых противоречивых фигур мировой литературы.

Если вы думаете, будто английский язык – это предмет и читать о нём можно только в учебниках, вы замечательно заблуждаетесь. Английский язык, как и любой язык, есть кладезь ума и глупости целых поколений. Поразмышлять об этом и предлагает 2 тетрадь книги «Неожиданный английский», посвящённая происхождению многих известных выражений, языковым стилям и грамматическим каверзам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
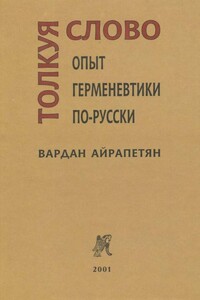
Задача этой книги — показать, что русская герменевтика, которую для автора образуют «металингвистика» Михаила Бахтина и «транс-семантика» Владимира Топорова, возможна как самостоятельная гуманитарная наука. Вся книга состоит из примечаний разных порядков к пяти ответам на вопрос, что значит слово сказал одной сказки. Сквозная тема книги — иное, инакость по данным русского языка и фольклора и продолжающей фольклор литературы. Толкуя слово, мы говорим, что оно значит, а значимо иное, особенное, исключительное; слово «думать» значит прежде всего «говорить с самим собою», а «я сам» — иной по отношению к другим для меня людям; но дурак тоже образцовый иной; сверхполное число, следующее за круглым, — число иного, остров его место, красный его цвет.