От Кибирова до Пушкина - [132]
Особенно интересна композиция раздела «Мелодии». В сборнике «Стихотворения» 1850 года, несмотря на то что тексты раздела пронумерованы арабскими цифрами (то есть Фет и Аполлон Григорьев не считали этот раздел циклом), стихотворения в нем сгруппированы с установкой на уровень метрики и ритмики. Рядом, как правило, были расположены несколько текстов, написанных одним метром, но реализующих разные его ритмические варианты. Таким образом, «мелодия» понималась, в первую очередь, как ритмический рисунок стихотворения. В первом выпуске ВО от этого композиционного принципа не осталось и следа. Очевидно, что метрика и ритмика если и интересовали Соловьева, то не в первую очередь. Тем не менее именно благодаря иному построению этого раздела, читатель смог обратить внимание на существенные изменения, происшедшие в поэтике Фета 1860-х-1870-х годов в отношении звуковых образов.
В стихотворениях Фета 1840-х-1850-х годов восприятие лирическим субъектом музыкальных звуков в большинстве случаев исключает элемент аналитичности, рассудочности («понимания»). Ср., напр.: «И откуда-то вдруг, я понять не могу, / Грянет звонкий прилив жемчугу» («Певице», 1857)[1120]; «Нет, не жди ты песни страстной, / Эти звуки — бред неясный, / Томный звон струны» («Нет, не жди ты песни страстной…», 1858).
Неслучайно в нескольких текстах названного периода внешние действия и внутренние состояния лирических персонажей характеризуются разными грамматическими формами глаголов «носиться» или «уноситься» (ср.: «Под чудные звуки мы с нею / Носились по зале вдвоем…»; ср. также начало стихотворения «Уноси мое сердце в тревожную даль…»). Предполагалось, что музыкальная стихия подчиняет героя себе, и он уже не властен над своими поступками, погружаясь в эмоциональное состояние блаженства. Другой устойчивой характеристикой эмоционального состояния «я» в стихотворениях этого периода о музыкальных звуках является исчезновение памяти (ср.: «Я думал… не помню, что думал; / Я слушал таинственный хор…» и тургеневскую пародию на эти строки: «Читал… что читал, я не помню, / Какой-то таинственный вздор») или же ее ограничение давнопрошедшим временем: «Пой! Не смущайся! Пусть время былое / Яркой зарей расцветет! Может быть, сердце утихнет больное / И, как дитя в колыбели, уснет»[1121]. Все приведенные примеры относятся к разделу «Мелодии» в сборниках 1850, 1856 и 1863 годов. Подчеркнем, что Фет не перестает писать стихотворения с отмеченными характеристиками и в 1880-е годы, однако в рассматриваемом издании эти тексты композиционно не маркированы. Так, стихотворение 1882 года «Шопену» помещено в самом конце первого выпуска ВО — в разделе «Дополнения». Здесь есть такие строки: «Я несусь в мое былое, — / Я на все, на все иное / Отпылал — потух» (186).
В разделе «Мелодии» первого выпуска ВО есть несколько стихотворений, где восприятие пения (а также природных звуков) лирическим субъектом ведет не к «забвению» и не к потере мысли, а, наоборот, к попытке восстановить целостность своего сознания (к усилию вспомнить забытое) и/или к появлению аналитического пласта в изображении восприятия музыкальных звуков. В стихотворении «Что ты, голубчик, задумчив сидишь…» (1883) «я» слышало во сне песню, которую ему необходимо вспомнить наяву, для того, чтобы узнать, «в чем этот голос его укорял». Это стихотворение Соловьев рассматривает в статье, подчеркивая, что здесь Фет не просто говорит о «бессознательном» как отдельном пласте психического мира героя, но и противопоставляет ему собственно «сознание», создавая тем самым целостную картину «души» «я».
Пение и звучание оказываются исходным импульсом для рациональных заключений в сознании «я». Наряду с лексическим рядом, описывающим эмоциональные состояния, появляется лексика, относящаяся к сфере мысли, интеллекта («всю жизнь<…> этим мигом измерю», «и цели нет иной»; «не признаю часов и рыданьям ночным не поверю»).
Итак, сопоставление композиции первого выпуска ВО и статьи Соловьева о поэзии Фета приводит к следующим предварительным выводам. Во-первых, первый раздел, «Элегии и думы», отражает установку на выстраивание микросюжетов. По-видимому, Фет не принял этой установки, так как все последующие выпуски ВО почти лишены фабульных тенденций. И дело здесь не только в том, что в последующих выпусках гораздо меньше стихотворений: ведь почти ни одна из заданных в «Элегиях и думах» сюжетных линий не продолжена. Как, однако, показывает история рецепции Фета в литературе начала XX века, соловьевская ориентация на циклизацию в ВО была, по-видимому, замечена целым рядом авторов (не только Блоком, дешифрующим стихи Фета посредством «соловьевского» мифа, но и, например, Мандельштамом, заметившим в поэзии Фета повторяющийся мотив «дыхания»[1122], а также Николаем Недоброво, вычленившим в поэзии Фета лирический сюжет «борьбы со временем»)[1123].
Во-вторых, как мы показали, в ВО композиционно маркированными оказались те тексты, которые отразили реальную поэтическую эволюцию Фета: действительно, в поздних его стихах много примеров как синхронного, так и последовательного изображения нескольких пластов сознания «я», «рационального», «осмысленного» восприятия им музыкальных звуков, описания внешнего и внутреннего миров «я» с использованием «логических связок». Все это говорит о постепенном движении Фета к «отстраненной», «объективированной» поэтике, более характерной для Тютчева, чем для Гейне, сильно повлиявшего на Фета в ранний период его творчества

Тимур Кибиров — поэт и писатель, автор более двадцати поэтических книг, лауреат многих отечественных и международных премий, в том числе премии «Поэт» (2008). Новая книга «Генерал и его семья», которую сам автор называет «историческим романом», — семейная сага, разворачивающаяся в позднем СССР. Кибиров подходит к набору вечных тем (конфликт поколений, проблема эмиграции, поиск предназначения) с иронией и лоскутным одеялом из цитат, определявших сознание позднесоветского человека. Вложенный в книгу опыт и внимание к мельчайшим деталям выводят «Генерала и его семью» на территорию большого русского романа, одновременно искреннего и саркастичного.

«Суть поэзии Тимура Кибирова в том, что он всегда распознавал в окружающей действительности „вечные образцы“ и умел сделать их присутствие явным и неоспоримым. Гражданские смуты и домашний уют, трепетная любовь и яростная ненависть, шальной загул и тягомотная похмельная тоска, дождь, гром, снег, листопад и дольней лозы прозябанье, модные шибко умственные доктрины и дебиловатая казарма, „общие места“ и безымянная далекая – одна из мириад, но единственная – звезда, старая добрая Англия и хвастливо вольтерьянствующая Франция, солнечное детство и простуженная юность, насущные денежные проблемы и взыскание абсолюта, природа, история, Россия, мир Божий говорят с Кибировым (а через него – с нами) только на одном языке – гибком и привольном, гневном и нежном, бранном и сюсюкающем, певучем и витийственном, темном и светлом, блаженно бессмысленном и предельно точном языке великой русской поэзии.

Сборник статей посвящен 60-летию Александра Васильевича Лаврова, ведущего отечественного специалиста по русской литературе рубежа XIX–XX веков, публикатора, комментатора и исследователя произведений Андрея Белого, В. Я. Брюсова, М. А. Волошина, Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, М. А. Кузмина, Иванова-Разумника, а также многих других писателей, поэтов и литераторов Серебряного века. В юбилейном приношении участвуют виднейшие отечественные и зарубежные филологи — друзья и коллеги А. В. Лаврова по интересу к эпохе рубежа столетий и к архивным разысканиям, сотрудники Пушкинского дома, где А. В. Лавров работает более 35 лет.

Перед нами – первый прозаический опыт лауреата Национальной премии «Поэт» Тимура Кибирова. «Радость сопутствует читателю „хроники верной и счастливой любви“ на всех ее этапах. Даже там, где сюжет коварно оскаливается, чистая радость перекрывает соблазн пустить слезу. Дело не в том, что автор заранее пообещал нам хеппи-энд, – дело в свободной и обнадеживающей интонации, что дорога тем читателям стихов Кибирова, которые… Которые (ох, наверно, многих обижу) умеют его читать. То есть слышат светлую, переливчато многоголосую, искрящуюся шампанским, в небеса зовущую музыку даже там, где поэт страшно рычит, жалуется на треклятую жизнь, всхлипывает, сжавшись в комок, а то и просто рыдает… Не флейта крысолова, не стон, зовущийся песней, не посул сладостного забвения, не громокипящий марш (хотя и все это, конечно, у Кибирова слышится), а музыка как таковая» (Андрей Немзер).

«Книга волшебных историй» выходит в рамках литературного проекта «Книга, ради которой…» Фонда помощи хосписам «Вера».В тот момент, когда кажется, что жизнь победила нас окончательно, положила на обе лопатки и больше с нами ничего хорошего не случится, сказка позволяет выйти из этой жизни в какую-то совсем другую: иногда более справедливую, иногда более щедрую, иногда устроенную немножко подобрее, – и поверить всем сердцем, что правильно именно так. Что так может быть, а потому однажды так и будет. Сказка – утешение.
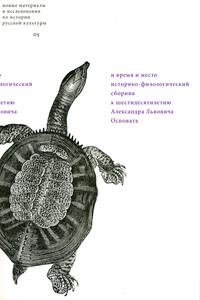
Историко-филологический сборник «И время и место» выходит в свет к шестидесятилетию профессора Калифорнийского университета (Лос-Анджелес) Александра Львовича Осповата. Статьи друзей, коллег и учеников юбиляра посвящены научным сюжетам, вдохновенно и конструктивно разрабатываемым А.Л. Осповатом, – взаимодействию и взаимовлиянию литературы и различных «ближайших рядов» (идеология, политика, бытовое поведение, визуальные искусства, музыка и др.), диалогу национальных культур, творческой истории литературных памятников, интертекстуальным связям.

Появлению статьи 1845 г. предшествовала краткая заметка В.Г. Белинского в отделе библиографии кн. 8 «Отечественных записок» о выходе т. III издания. В ней между прочим говорилось: «Какая книга! Толстая, увесистая, с портретами, с картинками, пятнадцать стихотворений, восемь статей в прозе, огромная драма в стихах! О такой книге – или надо говорить все, или не надо ничего говорить». Далее давалась следующая ироническая характеристика тома: «Эта книга так наивно, так добродушно, сама того не зная, выражает собою русскую литературу, впрочем не совсем современную, а особливо русскую книжную торговлю».

За два месяца до выхода из печати Белинский писал в заметке «Литературные новости»: «Первого тома «Ста русских литераторов», обещанного к 1 генваря, мы еще не видали, но видели 10 портретов, которые будут приложены к нему. Они все хороши – особенно г. Зотова: по лицу тотчас узнаешь, что писатель знатный. Г-н Полевой изображен слишком идеально a lord Byron: в халате, смотрит туда (dahin). Портреты гг. Марлинского, Сенковского Пушкина, Девицы-Кавалериста и – не помним, кого еще – дополняют знаменитую коллекцию.
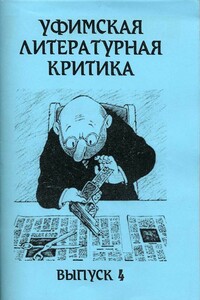
Данный сборник составлен на основе материалов – литературно-критических статей и рецензий, опубликованных в уфимской и российской периодике в 2005 г.: в журналах «Знамя», «Урал», «Ватандаш», «Агидель», в газетах «Литературная газета», «Время новостей», «Истоки», а также в Интернете.

Один из основателей русского символизма, поэт, критик, беллетрист, драматург, мыслитель Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) в полной мере может быть назван и выдающимся читателем. Высокая книжность в значительной степени инспирирует его творчество, а литературность, зависимость от «чужого слова» оказывается важнейшей чертой творческого мышления. Проявляясь в различных формах, она становится очевидной при изучении истории его текстов и их источников.В книге текстология и историко-литературный анализ представлены как взаимосвязанные стороны процесса осмысления поэтики Д.С.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.