От Двуглавого Орла к красному знамени. Кн. 2 - [18]
— Только ты, ради Бога, никому не говори. И мужу не пиши.
— У меня от него нет секретов.
— А это пусть будет секрет. До поры, до времени. Хорошо?
Зоя Николаевна подумала, что Ниночка не хочет, чтобы ее муж знал о ее романе, и согласилась.
— Ну вот, милка! — воскликнула Ниночка. — Славная ты душа. Хочешь, я его сейчас вызову. Славно проведем время.
— Ну, как же так… Без визита.
— Нет, это ты, Зоря, забудь. Никаких визитов. Никакейших. Это пережиток негодного прошлого, феодализма, рыцарства, отрыжка крепостного права, китайские церемонии. Товарищ Борис этого не признает. Придет и зачарует. Он говорит — заслушаешься, поет — рот разинешь, а станет шутить — от хохота умрешь. Из него прекрасный артист conferencier (*- Рассказчик) бы вышел, но он партийный работник и весь ушел в работу. Право, я позвоню ему. У тебя есть телефон?
— Нет. Для чего мне телефон. С кем бы я стала разговаривать, когда я одна-одинешенька в Петрограде.
— Ах, как же это без телефона. Придется поставить. Я хочу тебя увлечь, мой милый мотылек, в самое пламя революционной борьбы.
Ниночка отошла к окну, стала под искусственной пальмой, сложила на груди руки, как на молитву, и вдохновенно произнесла:
— Слыхала ты это, Зоря! Молилась с ним, с народом нашим, видала юные лица рабочей молодежи, вдохновенно повторяющей за тобою слова стиха-молитвы.
— Песня двуглавого орла спета, скоро встанет над народными массами, над тесными рядами солдат-граждан торжествующее красное знамя. Ты помнишь, у Горького в «Песне о Буревестнике»: «Буря! Скоро грянет буря! Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы: пусть сильнее грянет буря!..» Вот этих буревестников я приведу к тебе, моя милка, я приведу к тебе борцов за красное знамя, и, когда ты почувствуешь дуновение весны, запах свободы, мечты о прежнем разлетятся перед тобою в прах, как карточный домик, и ты вкусишь плоды познания добра и зла, и ты поймешь тогда, что все прошлое — чепуха. Тогда ты и меня поймешь, милка, и не осудишь.
— О, что с тобою, Ниночка, но разве я могу тебя осуждать. Да, Боже мой, никогда, никогда, я ни слова не скажу против тебя, я так тебе благодарна, что ты меня учишь. Вижу, что я многое проглядела.
— Ты не видала новой жизни! — сказала Ниночка. — И я тебя научу ей.
XIII
На другой день Ниночка пришла вечером с офицером. Это был плотный человек с густыми слегка вьющимися рыжеватыми волосами, бритый, как актер, с масляными наглыми глазами. На нем был хорошо сшитый френч, короткие шаровары-галифе, башмаки и обмотки, стягивавшие жирные икры до колен. Он был лоснящийся, сальный и чересчур ласковый. Зое Николаевне он не понравился.
— Ну вот, Зоря, я и привела тебе товарища Бориса. Честь имею представить — подпоручик Борис Матвеевич Кноп. Ты зови его просто товарищем Борисом.
— Ну зачем же так сразу, — сказал Кноп. — Пусть милая барынька привыкнет сначала к нам, узнает, полюбит, поймет.
Он почтительно склонился перед Зоей Николаевной и поцеловал ей руку. Зоя Николаевна не могла не заметить, что руки у него выхоленные, на пальцах дорогие перстни и розовые ногти отточены и отполированы, как у светской дамы. От него пахло духами. Зоя Николаевна не знала, о чем говорить, и терялась, отвыкнув от мужского общества.
Кноп, по ее предложению, сел в кресло и просил разрешения закурить.
— Волнуешься, Боря, — сказала Ниночка, хлопая по руке Кнопа. — Куришь. Первый признак, что волнуешься.
— Уж больно красива барынька, — сказал Кноп. — Яне ожидал. Трудно очень начать, когда не знаешь истинное credo (*- Верую) субъекта, с которым приходится говорить.
— Ее credo, — смеясь, сказала Ниночка, — Kaiser, Kirche, Kinder, Kleider und Kiiche (*- Император, церковь, дети, платье, кухня) — дальше этого милую Зорюшку никто ничему не учил. Институт. Папа — бригадный генерал в глухом богоспасаемом городе Глупове, а муж — капитан, лихой ротный командир, георгиевский кавалер, слуга царю, отец солдатам.
— Ну что же, — сказал Кноп, — все это очень хорошо. Нетронутая натура, не переболевшая — это куда восприимчивее, чем человек сомневающийся и уже боровшийся. Что вы знаете, милая барынька? — обратился Кноп к Зое Николаевне.
Зоя Николаевна пожала плечами. Ей было неприятно, что ее так спрашивали, точно учитель на экзамене или священник на исповеди. Но Кноп устремил на нее умные карие глаза, и в них она увидала ласковое внимание, и сердце у нее затрепетало. Он ей показался истинным другом.
— Болеете ли вы за нашу многострадальную родину? — вкрадчиво спросил Кноп.
Зоя Николаевна молчала. Подступали слезы, и от этого ее прекрасные большие глаза блестели. Углы рта опускались, она готова была заплакать. Кноп понял ее душевное состояние и заговорил сам. Он говорил красиво, образно, мягкий баритон его журчал и переливался, то усиливаясь, то спадая почти до шепота.

Краснов Петр Николаевич (1869–1947), профессиональный военный, прозаик, историк. За границей Краснов опубликовал много рассказов, мемуаров и историко-публицистических произведений.
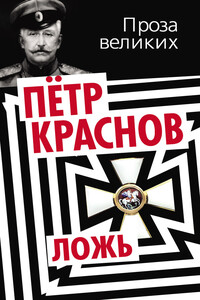
Автобиографический роман генерала Русской Императорской армии, атамана Всевеликого войска Донского Петра Николаевича Краснова «Ложь» (1936 г.), в котором он предрек свою судьбу и трагическую гибель!В хаосе революции белый генерал стал игрушкой в руках масонов, обманом был схвачен агентами НКВД и вывезен в Советскую страну для свершения жестокого показательного «правосудия»…Сразу после выхода в Париже роман «Ложь» был объявлен в СССР пропагандистским произведением и больше не издавался. Впервые выходит в России!
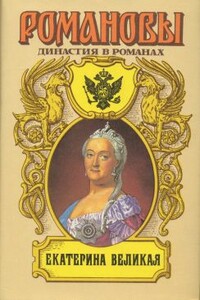
Екатерининская эпоха привлекала и привлекает к себе внимание историков, романистов, художников. В ней особенно ярко и причудливо переплелись характерные черты восемнадцатого столетия – широкие государственные замыслы и фаворитизм, расцвет наук и искусств и придворные интриги. Это было время изуверств Салтычихи и подвигов Румянцева и Суворова, время буйной стихии Пугачёвщины…В том вошли произведения:Bс. H. Иванов – Императрица ФикеП. Н. Краснов – Екатерина ВеликаяЕ. А. Сапиас – Петровские дни.

Роман замечательного русского писателя-реалиста, видного деятеля Белого движения и казачьего генерала П.Н.Краснова основан на реальных событиях — прежде всего, на преступлении, имевшем место в Киеве в 1911 году и всколыхнувшем общественную жизнь всей России. Он имеет черты как политического детектива, так и «женского» любовно-психологического романа. Рисуя офицерскую среду и жизнь различных слоев общества, писатель глубиной безпощадного анализа причин и следствий происходящего, широтой охвата действительности превосходит более известные нам произведения популярных писателей конца XIX-начала ХХ вв.

Известный писатель русского зарубежья генерал Петр Николаевич Краснов в своем романе «Ненависть» в первую очередь постарался запечатлеть жизнь русского общества до Великой войны (1914–1918). Противопоставление благородным устремлениям молодых патриотов России низменных мотивов грядущих сеятелей смуты — революционеров, пожалуй, является главным лейтмотивом повествования. Не переоценивая художественных достоинств романа, можно с уверенностью сказать, что «Ненависть» представляется наиболее удачным произведением генерала Краснова с точки зрения охвата двух соседствующих во времени эпох — России довоенной, процветающей и сильной, и России, где к власти пришло большевистское правительство.

Алексей Алексеевич Луговой (настоящая фамилия Тихонов; 1853–1914) — русский прозаик, драматург, поэт.Повесть «Девичье поле», 1909 г.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность…»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
