От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России - [7]
В 70-х и в начале 80-х годов мы все учились несколько иначе, чем учатся теперь. Мы все были теоретиками и мечтателями с ранней школьной скамьи. Средняя школа для нас проносилась, как в тумане, и мы все смотрели, из разных захолустных уголков России, в ту неопределенную даль, где для нас и было только одно – сияние милого, обвеянного мечтами, нас ожидавшего университета. Собственно, только эта поэзия ожидания и согревала нас в те ранние года, и ничем учитель не мог так привязать к себе и заинтересовать в классе, как рассказав что-нибудь о годах своего университетского учения – какие бывают профессора, что они читают, какой они имеют вид, наконец. Мы уже во многом были серьезны, но если в чем были детьми, со всей поэзией детства, со всею нескрываемою и нас несмущавшею наивностью, так именно в этом ожидании, в этих условиях представить людей, занятых только наукой, т. е. изысканием истины, и совершенно непохожих на всех окружавших нас, которые нам наскучили, которых мы часто не любили и не уважали. Помню эти долгие, уединенные прогулки по нагорному берегу Волги, с определением по положению солнца того направления, где был университетский город и куда вот уже скоро умчит поезд и. т. д., тогда начнется совсем, совсем другое. И ничего другого не было… Все было обманом старых литературных воспоминаний и немногих, избранных впечатлений наших школьных учителей. Университет – universitas omnium litteratum[19], вся эта «филология» наша была неправильна. Никак нельзя было представить, из каких требований ума вытекло это распределение наук, и в особенности как можно было преподавать науку, совершенно сбиваясь в ее определениях. Было чтение разных вещей о разных предметах, хрестоматия или сборник практически полезных сведений, но не было науки в смысле теории, своими широкими рамами покрывающей естественные потребности естественно же развивающегося ума. Даже и идеи о возможности и необходимости такого теоретизма нигде не было. Самые предметы науки как-то странно никого не интересовали; интересовали книжки, написанные об этих предметах, репутация широкой в них начитанности. В идее – огромное множество островов, ни к чему не примыкающих; в действительности – просто рассказы об островах, которые давно скрылись под поверхностью воды. А мы ждали материка. О, как удовлетворил бы нас Фома Аквинский, хотя между нами многие пришли сюда атеистами; или Бодэн, Гоббс, Жозеф де Местр, хотя мы вовсе не были «легитимисты». Но мы ждали складности; и кто бы нам ее ни дал – мы бы за ним пошли.
Только немногие старые профессора и спасли в нас идеализм к науке. Это были последние эпигоны людей 40-х годов, каких мы видели, которых мы никогда не забудем. «По-моему, где профессор – там и университет», – сказал один из них, вышедший тогда почему-то в отставку (Буслаев). – Да, конечно, а не большое кирпичное здание, выстроив которое в Томске и повесив на него вывеску, еще без профессоров, без студентов, все почему-то называли: «Сибирский университет». Странные понятия об университете – о святилище наук, где они преподаются, и которое изготовляется печниками на кирпичных заводах. Все извратилось и померкло в наше тусклое, искаженное время. В «университете» университету еще нужно зародиться; завестись чудакам-профессорам и всей студенческой братии слюбиться, сжиться, порасти мхом, кого-нибудь похоронить и справить тризну – и тогда это будет университет. Удостоиться стать им через почетный труд, через доблестную жизнь, через историю – можно; выстроиться университету нельзя.
Тогда в журналах все писали о «кружке молодых профессоров» в нашем университете; о стариках никто не писал и не говорил – только они сами издавали один ученый труд за другим, и до этого никому не было, по-видимому, дела. Работали в пустыне. Молодые же профессора, за исключением двух-трех, все были какие-то розовые или упитанные и чрезвычайно уморительные в своих усилиях показаться «страшными». Наивны они были очень; об одном рассказывали в университете, что он все укладывал в чемодан белье, говоря, что его скоро «вышлют», – конечно, выслать его было решительно не за что, и он до сих пор строчит свою бесталанную макулатуру во многих наших «передовых» изданиях. Этот профессор, охотнее возившийся с чемоданом, чем с книгами, понимая, что это не может не отражаться на лекциях, достаточно темно и достаточно ясно намекал на некоторую бедность развития при всей эрудиции у его старшего коллеги по факультету, который издавал тогда свои капитальные работы по финансовому праву. Эпиграфы к сочинениям обыкновенно брались тоже из какого-нибудь «страшного» философа. «Не плакать, не смеяться – но понимать. Spinosa» – помню, стояло на брошюре из веленевой бумаги у одного профессора, хотя из трех указанных проявлений человеческой натуры известно было всем, что он любил только второе. Все это было наивно, все было порой невыносимо; большее число студентов, как и всякой большей массы, становилось все более и более тем, чего от них ожидали. – «Я не хочу пить за студентов», – сказал один старый, ныне покойный профессор, когда 12 января ему предложили поднять бокал «за молодежь». Об этом рассказывали потом, и я не забуду, с каким уважением начали смотреть на него после этого случая очень многие из студентов. Раскол уже тогда и там начинался. Как теперь помню этого безукоризненного ученого в одном диспуте по палеонтологии: красавец доцент, очень речистый, на возражение невзрачного маленького старичка, ему официально оппонировавшего, сказал скромно и торжественно: «Но, позвольте, значит, вы незнакомы с последними замечаниями знаменитого венского ученого N.N.». Старик смутился и, кажется, ничего не мог возразить. Что же, на седьмом десятке лет, быть может, больной, он и вправду не успел еще, может статься, разрезать последних книжек ученых изданий и, кажется, жалел об этом, считал это стыдным для себя. «Да позвольте», – вдруг поднялся рядом со стариком сидевший профессор и сразу все покрыл своею гигантской фигурою и голосом: – Мой достоуважаемый учитель (и он обратился к смутившемуся старику, о котором я тут только узнал, что это был знаменитый ученый, сам объехавший всю Россию, еще когда доцентик не появлялся на свет), мой достоуважаемый учитель говорит вовсе не то, и вы только путаете дело своими ссылками…» – смял растерявшегося магистранта с его венскими профессорами и в крупных, резких штрихах показал, в чем суть дела и что этой сути даже не заметил опрятно одетый диспутант, все только разрезавший новые книжки и в глаза не видавший ни одного геологического разреза и никаких окаменелостей. Старшие профессора, обросшие седою щетиною, были невзрачны, неуклюжи, сгорблены под тяжестью трудов и лет; но в своих потрепанных вицмундирчиках они были удивительно как внутренно изящны, всегда просты, – это чувствовалось, – возвышенны умом и сердцем. Совсем не то было в кружке «молодых профессоров».

В.В.Розанов несправедливо был забыт, долгое время он оставался за гранью литературы. И дело вовсе не в том, что он мало был кому интересен, а в том, что Розанов — личность сложная и дать ему какую-либо конкретную характеристику было затруднительно. Даже на сегодняшний день мы мало знаем о нём как о личности и писателе. Наследие его обширно и включает в себя более 30 книг по философии, истории, религии, морали, литературе, культуре. Его творчество — одно из наиболее неоднозначных явлений русской культуры.

Книга Розанова «Уединённое» (1912) представляет собой собрание разрозненных эссеистических набросков, беглых умозрений, дневниковых записей, внутренних диалогов, объединённых по настроению.В "Уединенном" Розанов формулирует и свое отношение к религии. Оно напоминает отношение к христианству Леонтьева, а именно отношение к Христу как к личному Богу.До 1911 года никто не решился бы назвать его писателем. В лучшем случае – очеркистом. Но после выхода "Уединенное", его признали как творца и петербургского мистика.

«Последние листья» (1916 — 1917) — впечатляющий свод эссе-дневниковых записей, составленный знаменитым отечественным писателем-философом Василием Васильевичем Розановым (1856 — 1919) и являющийся своего рода логическим продолжением двух ранее изданных «коробов» «Опавших листьев» (1913–1915). Книга рассчитана на самую широкую читательскую аудиторию.
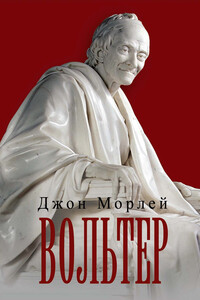
Книга английского политического деятеля, историка и литературоведа Джона Морлея посвящена жизни и творчеству одного из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века – Вольтера. В книге содержится подробная биография Вольтера, в которой не только представлены факты жизни великого мыслителя, но ярко нарисован его характер, природные наклонности, способности, интересы. Автор описывает отношение Вольтера к различным сторонам жизни, выразившееся в его многочисленных сочинениях, анализирует основные произведения.

Эта книга отправляет читателя прямиком на поле битвы самых ярких интеллектуальных идей, гипотез и научных открытий, будоражащих умы всех, кто сегодня задается вопросами о существовании Бога. Самый известный в мире атеист после полувековой активной деятельности по популяризации атеизма публично признал, что пришел к вере в Бога, и его взгляды поменялись именно благодаря современной науке. В своей знаменитой книге, впервые издающейся на русском языке, Энтони Флю рассказал о долгой жизни в науке и тщательно разобрал каждый этап изменения своего мировоззрения.

Немецкий исследователь Вольфрам Айленбергер (род. 1972), основатель и главный редактор журнала Philosophie Magazin, бросает взгляд на одну из величайших эпох немецко-австрийской мысли — двадцатые годы прошлого века, подробно, словно под микроскопом, рассматривая не только философское творчество, но и жизнь четырех «магов»: Эрнста Кассирера, Мартина Хайдеггера, Вальтера Беньямина и Людвига Витгенштейна, чьи судьбы причудливо переплелись с перипетиями бурного послевоенного десятилетия. Впечатляющая интеллектуально-историческая панорама, вышедшая из-под пера автора, не похожа ни на хрестоматию по истории философии, ни на академическое исследование, ни на беллетризованную биографию, но соединяет в себе лучшие черты всех этих жанров, приглашая читателя совершить экскурс в лабораторию мысли, ставшую местом рождения целого ряда направлений в современной философии.

Парадоксальному, яркому, провокационному русскому и советскому философу Константину Сотонину не повезло быть узнанным и оцененным в XX веке, его книги выходили ничтожными тиражами, его арестовывали и судили, и даже точная дата его смерти неизвестна. И тем интереснее и важнее современному читателю открыть для себя необыкновенно свежо и весело написанные работы Сотонина. Работая в 1920-е гг. в Казани над идеями «философской клиники» и Научной организации труда, знаток античности Константин Сотонин сконструировал непривычный образ «отца всех философов» Сократа, образ смеющегося философа и тонкого психолога, чья актуальность сможет раскрыться только в XXI веке.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В сегодняшнем мире, склонном к саморазрушению на многих уровнях, книга «Философия энтропии» является очень актуальной. Феномен энтропии в ней рассматривается в самых разнообразных значениях, широко интерпретируется в философском, научном, социальном, поэтическом и во многих других смыслах. Автор предлагает обратиться к онтологическим, организационно-техническим, эпистемологическим и прочим негэнтропийным созидательным потенциалам, указывая на их трансцендентный источник. Книга будет полезной как для ученых, так и для студентов.

I. Современный мир можно видеть как мир специалистов. Всё важное в мире делается специалистами; а все неспециалисты заняты на подсобных работах — у этих же самых специалистов. Можно видеть и иначе — как мир владельцев этого мира; это более традиционная точка зрения. Но для понимания мира в аспектах его прогресса владельцев можно оставить за скобками. Как будет показано далее, самые глобальные, самые глубинные потоки мировых тенденций владельцы не направляют. Владельцы их только оседлывают и на них едут. II. Это социально-философское эссе о главном вызове, стоящем перед западной цивилизацией — о потере ее людьми изначальных человеческих качеств и изначальной человеческой целостности, то есть всего того, что позволило эту цивилизацию построить.