От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России - [202]
«…Религия духа, – продолжает он, – не есть отрицание символов плоти. Но религия святой плоти, природной и исторической, – невозможна. Вовне, в объективизации, в природе и истории всегда дано лишь относительное, никогда не абсолютное, – лишь символическое, а не реальное».
Да, ведь и «новенькое» – то подлежит все этим же критериям. Ведь будет «новая материя», «новая историчность», новая, следовательно, временность.
Куда же деваться и как поступать? Из «ветшающего» переходим в «ветшающее»? зачем? Для чего переход? Зачем «переходить», когда, по Бердяеву же, «в лучшее» и «в вечное» перейти человеку не дано по сущности вещей.
Но «религия», будучи обыкновенно «национальным» в переживаниях, в осуществлении, – так сказать, в красках и в напевах, – в самом тоне и «содержании песни» не есть никогда национальное, а есть многонациональное, а самое-то главное: религия идет от Бога и дана людям и человечеству – в Откровениях. Недостаток и громадный недостаток Бердяева заключается в том, что он говорит о религии без достаточной солидности, отчего и происходит, что он толкает нас менять религиозные формы, как политические платья…
«Тип булгаковской религиозности порождает религиозный национализм, абсолютизацию национальной и исторической плоти…»
Ну, «абсолютизацию» не абсолютизацию, – а укрепление – да. Бердяев – полуфранцуз, полурусский, просто этого не понимает, а потому и не видит величайшей этого ценности. Ему нравятся цифры «два» и «три». Но не нравится «два пуда муки» и «три каравая хлеба». Между тем отвлеченность не противоречит конкретности, а «любит» конкретность, воплощается в ней и подпирает ее. «Два каравая хлеба» лучше «двух», потому что тут есть и цифра «два» во всей ее полноте и значимости, и есть еще сверху этого «хлеб» и мастерство выпечь муку в «каравай». Конкретное всегда выше, полнее, сдобнее отвлеченного, – и вот отчего не без основания многие в истории нашей не любили, точнее – не доверяли разговорам о «христианстве», предпочитая, что на место этого ставили всю сдобность, всю личность, всю «живую душу» православия. Ибо «христианин» – это и лютеранин, и пастор Штекер, и даже Ренан, наконец, это инквизитор испанский, а «православный»… тоже может быть с большими недостатками, и даже наверно с очень большими, но из-за спины его не слышно гари человеческого мяса и не видно отрицательного богословия. «Другое» зло и меньшее, иное и, во всяком случае, – «наше».
Бердяев может много поставить на счеты православия, но он ему не поставит на счет кровожадного, неумолимого суда инквизиции и иезуитства у католиков. Но вот нашему «национальному характеру» это специфически противно – и нельзя не сказать, что «Церковь русская», выработавшаяся под воздействием этих национальных черт характера, теперь, в свою очередь, своим «кротким и мягким духом» поддерживает эти добрые национальные черты уже как религиозный авторитет, как (в некоторых случаях) церковная власть, – не допуская быть и в других, в гражданских и бытовых столкновениях жестокости, бесчеловечию и кривизне, хитросплетению. Русская литература гордится своим «грубоватым чистосердечием» и, с другой стороны, тоже гордится своею близостью к жизни, к быту, своим «натурализмом» и «разумом». В нашей литературе как-то невозможны «Люциферы» и «Манфреды», ну невозможен и «Фауст»; между тем многим ли писателям, из коих часть и полные атеисты, Чернышевский или Тургенев, что лучшие стороны их литературной деятельности обязаны происхождением своим веянию на них, на этих атеистов, церковного дыхания. Ибо церковь надышала все это в быт, в душу, рассеяла везде, молясь и о болезнях, и о хлебе, и об урожае, и о «плодах земных», и о «временах мирных». Кротость и тишина православия, – кротость и тишина русских святынь, – она теперь действует как вечное и древнее начало, на мужика, на купца, на священника, на помещика, на воина. Получилось «христолюбивое воинство», – которое и на всемирных весах кое-что весит. И как вот не прав Бердяев в заключительных словах приведенного отрывка:
«В Булгакове преобладает жажда растворения в матери-земле. Для его религиозного национального мессианизма более характерна верность материнскому лику, чем мужественно-творческий призыв к будущему, к активному выполнению национальной миссии в мире. В отношении Булгакова к России совершенно отсутствует сознание необходимости раскрытия и развития человеческого начала (??? – В. Р.) в России, религиозного откровения личности. Он хотел бы оставить русский народ в натуральном коллективизме, который представляется ему религиозной соборностью».
Но разве «кротость», «тихость» – не человечны? Да, это несчастье русской интеллигенции. Назови вещь «пацифизмом», и все закричат: «как это человечно!» – «какой это высокий идеал». Скажи: «но об этом молится Церковь» – и все отвернутся: «какая скука!» – с этим бедламом ничего не поделаешь.
Полный сухих и пустынных веяний, в другом месте критик православия и тех же идей С. Н. Булгакова Бердяев упрекает, что в Русской Церкви в изображениях Богоматери и всех боголепиях ее преобладает мотив именно матери, а не мотив Девы. К этому он присоединяет и упреки лично Булгакову за его «софийное хозяйство». Между тем, здесь одна из драгоценных черт мышления Булгакова. Обжегшись на Марксе и Фейербахе, в то же время политико-экономист по занимаемой кафедре, С. Н. Булгаков очень правильно и очень мудро стал искать подвести трудовую и хлебную жизнь народа православного под крыло Церкви же, и это совершенно правильно, это отнюдь не анти-церковно, потому что «под молитвы цер ковные» урожай уже подведен, и было даже (мне рассказывал г. Поселянин) пожелание иеросхимонаха оптинского Амвросия об одобрении образа Божией Матери – «Спорительницы хлебов» (урожая). Справедлив или только «переданная легенда» этот рассказ об Иеромонахе Амвросии, авторитет коего очень велик, – но вообще православие, будучи столь народным, конечно, имеет тенденцию обнять собою народный труд во всех благочестивых формах его. Но вот тут, где Булгаков делает столь правильный шаг к «религиозному творчеству», вернее – к философски-религиозному, – Бердяев вдруг его останавливает, и останавливает потому только, что это «в духе православия и раскрывает дальше православие», а не в духе католичества, не в духе, например, политически-деятельных католических монашеских орденов. Здесь мы прямо видим излом в Бердяеве. Видим, что ему неприятна самая почва православия, самый дух его, самая история его. Ну, что же: он, по крови своей в значительной части человек чужой истории. Но нам своя родная почва мила и мы желаем пахать именно свою почву. Он нам нисколько не угрожает, но он нас и нисколько не соблазнит.

В.В.Розанов несправедливо был забыт, долгое время он оставался за гранью литературы. И дело вовсе не в том, что он мало был кому интересен, а в том, что Розанов — личность сложная и дать ему какую-либо конкретную характеристику было затруднительно. Даже на сегодняшний день мы мало знаем о нём как о личности и писателе. Наследие его обширно и включает в себя более 30 книг по философии, истории, религии, морали, литературе, культуре. Его творчество — одно из наиболее неоднозначных явлений русской культуры.

Книга Розанова «Уединённое» (1912) представляет собой собрание разрозненных эссеистических набросков, беглых умозрений, дневниковых записей, внутренних диалогов, объединённых по настроению.В "Уединенном" Розанов формулирует и свое отношение к религии. Оно напоминает отношение к христианству Леонтьева, а именно отношение к Христу как к личному Богу.До 1911 года никто не решился бы назвать его писателем. В лучшем случае – очеркистом. Но после выхода "Уединенное", его признали как творца и петербургского мистика.

В.В. Розанов (1856–1919 гг.) — виднейшая фигура эпохи расцвета российской философии «серебряного века», тонкий стилист и создатель философской теории, оригинальной до парадоксальности, — теории, оказавшей значительное влияние на умы конца XIX — начала XX в. и пережившей своеобразное «второе рождение» уже в наши дни. Проходят годы и десятилетия, однако сила и глубина розановской мысли по-прежнему неподвластны времени…«Опавшие листья» - опыт уникальный для русской философии. Розанов не излагает своего учения, выстроенного мировоззрения, он чувствует, рефлектирует и записывает свои мысли и наблюдение на клочках бумаги.

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

Рене Декарт – выдающийся математик, физик и физиолог. До сих пор мы используем созданную им математическую символику, а его система координат отражает интуитивное представление человека эпохи Нового времени о бесконечном пространстве. Но прежде всего Декарт – философ, предложивший метод радикального сомнения для решения вопроса о познании мира. В «Правилах для руководства ума» он пытается доказать, что результатом любого научного занятия является особое направление ума, и указывает способ достижения истинного знания.
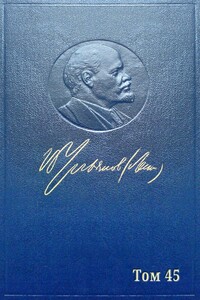
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
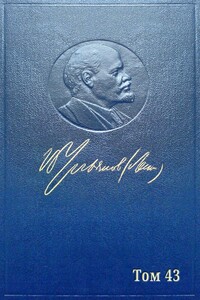
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
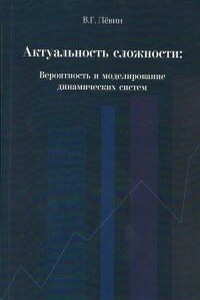
Исследуется проблема сложности в контексте разработки принципов моделирования динамических систем. Применяется авторский метод двойной рефлексии. Дается современная характеристика вероятностных и статистических систем. Определяются общеметодологические основания неодетерминизма. Раскрывается его связь с решением задач общей теории систем. Эксплицируется историко-научный контекст разработки проблемы сложности.

Глобальный кризис вновь пробудил во всем мире интерес к «Капиталу» Маркса и марксизму. В этой связи, в книге известного философа, политолога и публициста Б. Ф. Славина рассматриваются наиболее дискуссионные и малоизученные вопросы марксизма, связанные с трактовкой Марксом его социального идеала, пониманием им мировой истории, роли в ней «русской общины», революции и рабочего движения. За свои идеи классики марксизма часто подвергались жесткой критике со стороны буржуазных идеологов, которые и сегодня противопоставляют не только взгляды молодого и зрелого Маркса, но и целые труды Маркса и Энгельса, Маркса и Ленина, прошлых и современных их последователей.