От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России - [133]
Впервые напечатанная теперь в «Русск. Мысли» статья К. Леонтьева «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве» полна выразительности и того богатого физиологическо-бытового восприятия, к какому К. Леонтьев был так способен:
«Мне нравилась его наружность, его плотность, его добрые глаза, его красивый горбатый нос, покойные, тяжелые движения, под которыми крылась страстность. Когда он шел по Невскому в фуражке, в длинном сюртуке, толстый, медленный, с бородой, когда он пил чай и, кивая головой, слушал, что ему говорили, он был похож на хорошего умного купца, конечно русского, не то чтобы на негоцианта в очках и стриженых бакенбардах!
Один из наших писателей рассказывал мне о своей первой встрече с Ап. Григорьевым; эта встреча, кажется, произошла уже давно. Писатель этот сидел в одном доме, как вдруг входит видный мужчина, остриженный в кружок, в русской одежде, с балалайкой или гитарой в руках; не говоря ни слова, садится и начинает играть, и, если не ошибаюсь, и петь. Потом уже хозяин дома представил их друг другу».
Личная встреча К. Леонтьева с Ап. Григорьевым произошла так. К. Леонтьев не любил вообще писателей, не любил того обезличивающего, что кладет на их личность однообразная и монотонная необходимость все писать и писать. Посему и избегал знакомств с ними. Но интерес к писаниям Ап. Григорьева преодолел житейскую его антипатию или предрассудок. Идя раз по Невскому, он встретил Григорьева, шедшего с приятелем, которого знал. И, подойдя к последнему, – просил их познакомить.
«Мы зашли в Пассаж, – рассказывает далее Леонтьев, – и довольно долго разговаривали там. Я был в восторге от смелости, «с которой он защищал юродивых в то положительное и практическое время (60-е годы), и не скрывал от него своего удовольствия. Он отвечал мне:
– Моя мысль теперь вот какая: то, что прекрасно в книге, – прекрасно и в жизни; оно может быть неудобно, но это другой вопрос. Люди не должны жить для одних удобств, а для прекрасного… (курсив Л-ва).
– Если так, – сказал я, – то век Людовика XIV со всеми его и мрачными и пышными сторонами в своем роде прекраснее, чем жизнь не только Голландии, но и современной Англии? Если бы пришлось кстати, – стали бы вы это печатать?..»
В это время Ап. Григорьев издавал свою маленькую газетку.
– Конечно, – отвечал он, – так и надо писать теперь и печатать!
Немного погодя я встретил Григорьева опять на Невском. Не помню, по какому поводу шел по улице крестный ход. Григорьев был печален и молча смотрел на толпу.
– Вы любите это? – спросил я, движимый сочувствием.
– Здесь, – отвечал Григорьев грустно, – не то, что в Москве. В Москве эти минуты народной жизни исполнены истинной поэзии.
– Вам самим, – прибавил я, – не идет жить в этом плоском Петербурге; отчего вы бросили Москву?..
Григорьев отвечал, что обстоятельства сильнее вкусов…
Я был потом несколько раз у него. Жилище его было бедно и пусто…
Я сначала думал, что он живет не один. Я знал прежде, что он женат, и раз на Святой неделе спросил у него: «Отчего у вас, славянофила, не заметно в доме ничего, что бы напоминало русскую Пасху?»
– Где мне, бездомному скитальцу, праздновать Пасху так, как ее празднует хороший семьянин? – сказал Григорьев.
– Я думал, вы женаты, – заметил я.
– Вы спросите, как я женат! – воскликнул горько Аполлон.
Я замолчал и вспомнил о том, что слышал прежде о его семейной жизни. Я вспомнил, как говорили, что он и семейную жизнь свою поставил совсем особо, по-своему (курсив Л-ва), и понял, что избранный им смелый и странный путь породил по несчастью разрыв и нечто еще худшее разрыва…
Вскоре после этого Ап. Григорьев пропал без вести. Даже ближайшие: его друзья не знали, где он. Я долго искал его; нашел наконец его бедный номер в громадном доме Фредерикса, но не застал его, и мы уже больше не встречались. Я уехал из России, а Григорьева через год не стало».
Статья К. Леонтьева была прислана Страхову в Петербург из-за границы в виде письма к нему, что и обозначено в подзаголовке: «Несколько мыслей и воспоминаний об Ап. Григорьеве. Письмо к Ник. Ник. Страхову». Вероятно, поэтому Страхов, не напечатав статьи, не счел, однако, долгом и вернуть ее Леонтьеву как просто письмо, к нему адресованное. Почему его Страхов не напечатал? Для читающего статью это совершенно ясно и вместе очень показательно для обоих славянофилов. Страхов был славянофилом с добродетелью, а Леонтьев был славянофилом без добродетели (хотя с прелестными личными качествами). Первый был смиренномудрый и спокойный, благопопечительствующий о роде людском, даже «и о врагах своих»; второй был горячий, страстный и хотел бы ввергнуть в борьбу и распрю, даже в страдание, не токмо врагов, но и друзей! Он говорит о юродивых; но не увлекайтесь и особенно – не надейтесь: он с любовью говорит и о пышном Людовике XIV. В нем было много Гераклита Темного, с его принципом вражды, с его требованием борьбы повсюду в мире. Много Гераклита и, следовательно, много Гегеля, любимца Страхова. Да, но это – в идеях (у Страхова). Но он отшатнулся со страхом и далее с некоторым отвращением (как и Рачинский, – Страхов испытывал положительное отвращение к Леонтьеву), когда «дело» пошло о деле, о жизни, о проведении «диалектического метода» (Гераклит и Гегель) – в явлениях истории, партий, вер… и даже до костюмов человеческих включительно. При этом, можно сказать, в Леонтьеве Гегеля сидело больше, чем в самом Гегеле: у Гегеля тоже были все только «идеи», а сам он был мирным берлинским профессором. Леонтьев кидал «в схватку», кидал в огонь вот эти самые явления на улице, у себя в дому, – где они ни попадались ему. Он нигде не хотел мира, не хотел мира у себя в дому, в нашей России. Он был «поджигатель» по натуре, по существу, по личному вкусу. Его «огонь» был не философией, а пылал у него в крови, жег мозг, толкал его лично на безрассудства и выходки, – между прочим, испортившие ему и правительственную службу. Он не забывал своей «идеи» ни на минуту, – и, будучи глубоко «преклоненным» перед славянофильством, разорвал и с ними, именно с моральной и «смиренномудрой» их стороной (в сущности, еще глубже – с «православной» их стороной), ради отвращения и ненавидения их тихости, елейности и упорядоченности, бытовой, семейной и церковной. Но, – пусть уж диалектика доходит до конца, до груди самого Леонтьева, – около страшно серьезного в нем, около глубоко философского и трагического, лежал и простой комический элемент. Где? Как? Философски идея Леонтьева базировалась на рассмотрении биологического процесса, частью коего, разновидностью коего для него был и процесс всемирной истории. Доселе – «премудрость», Гераклит и Гегель. Но откуда же, однако, личное пылание, которого не было ни в Гераклите, ни в Гегеле? Говоря языком комедий, – откуда в нем зажглось это желание бросить весь мир в пламя, ради цветных тряпочек? Да – «моды», ради которых женщины изменяют верности мужьям; да те «наряды», ради которых «честь» не дорога. Леонтьев слишком, «как женщина», смотрел на историю и культуру; у него был «женский глазок» на все, с его безумными привязанностями, с его безумными пристрастиями, с его безумным фанатизмом. Отсюда странное очарование, которое на нас льется из его неудержимых речей, как будто нас «заговаривает» женщина, чего-то у нас просящая, чего-то безумно требующая и которой мы не в силах противостоять. У Леонтьева – «чары» из самого слова, из строения фразы, в каждой строке «с мольбою или «упреком». От этого его любят или, правильнее, «влюбляются» в него даже враги, например Струве в памятной речи в Москве, года два назад, на заседании религиозно-философского общества, слушавшего доклад г. Грифцова о Леонтьеве; Струве поставил Леонтьева выше по качествам исторического учения, чем Толстого и Влад. Соловьева, – между тем как сам Струве – «освобожденец», а Леонтьев – реакционер, правее Каткова. Тут – нельзя сопротивляться. Леонтьева – нельзя не любить. Ибо как вы будете не любить того, кто сам так безмерно любит? В Леонтьеве есть что-то «от Чайковского» и его таинственной, гипнотизирующей музыки. Только у Чайковского – все в звуках, у Леонтьева – в формах, изящных линиях, любви к «наряду», «цветному», к разнообразию узора и красок, в конце концов (и тут мы рассмеиваемся) – «к моде»… Подавай нам «модный свет», подавай нам «цветистую» историю, подавай нам «яркую» жизнь…

В.В.Розанов несправедливо был забыт, долгое время он оставался за гранью литературы. И дело вовсе не в том, что он мало был кому интересен, а в том, что Розанов — личность сложная и дать ему какую-либо конкретную характеристику было затруднительно. Даже на сегодняшний день мы мало знаем о нём как о личности и писателе. Наследие его обширно и включает в себя более 30 книг по философии, истории, религии, морали, литературе, культуре. Его творчество — одно из наиболее неоднозначных явлений русской культуры.

Книга Розанова «Уединённое» (1912) представляет собой собрание разрозненных эссеистических набросков, беглых умозрений, дневниковых записей, внутренних диалогов, объединённых по настроению.В "Уединенном" Розанов формулирует и свое отношение к религии. Оно напоминает отношение к христианству Леонтьева, а именно отношение к Христу как к личному Богу.До 1911 года никто не решился бы назвать его писателем. В лучшем случае – очеркистом. Но после выхода "Уединенное", его признали как творца и петербургского мистика.

В.В. Розанов (1856–1919 гг.) — виднейшая фигура эпохи расцвета российской философии «серебряного века», тонкий стилист и создатель философской теории, оригинальной до парадоксальности, — теории, оказавшей значительное влияние на умы конца XIX — начала XX в. и пережившей своеобразное «второе рождение» уже в наши дни. Проходят годы и десятилетия, однако сила и глубина розановской мысли по-прежнему неподвластны времени…«Опавшие листья» - опыт уникальный для русской философии. Розанов не излагает своего учения, выстроенного мировоззрения, он чувствует, рефлектирует и записывает свои мысли и наблюдение на клочках бумаги.

В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является.

В Тибетской книге мертвых описана типичная посмертная участь неподготовленного человека, каких среди нас – большинство. Ее цель – помочь нам, объяснить, каким именно образом наши поступки и психические состояния влияют на наше посмертье. Но ценность Тибетской книги мертвых заключается не только в подготовке к смерти. Нет никакой необходимости умирать, чтобы воспользоваться ее советами. Они настолько психологичны и применимы в нашей теперешней жизни, что ими можно и нужно руководствоваться прямо сейчас, не дожидаясь последнего часа.

На основе анализа уникальных средневековых источников известный российский востоковед Александр Игнатенко прослеживает влияние категории Зеркало на становление исламской спекулятивной мысли – философии, теологии, теоретического мистицизма, этики. Эта категория, начавшая формироваться в Коране и хадисах (исламском Предании) и находившаяся в постоянной динамике, стала системообразующей для ислама – определявшей не только то или иное решение конкретных философских и теологических проблем, но и общее направление и конечные результаты эволюции спекулятивной мысли в культуре, в которой действовало табу на изображение живых одухотворенных существ.
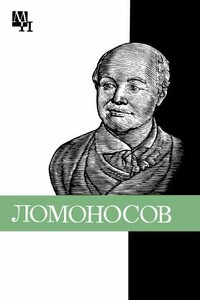
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. Ломоносова (1711—1765), выдающегося русского ученого, естествоиспытателя, основоположника физической химии, философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».Для широкого круга читателей.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.

В монографии раскрыты научные и философские основания ноосферного прорыва России в свое будущее в XXI веке. Позитивная футурология предполагает концепцию ноосферной стратегии развития России, которая позволит ей избежать экологической гибели и позиционировать ноосферную модель избавления человечества от исчезновения в XXI веке. Книга адресована широкому кругу интеллектуальных читателей, небезразличных к судьбам России, человеческого разума и человечества. Основная идейная линия произведения восходит к учению В.И.