От диктатуры к демократии - [5]
Отдельные лица и группы, противостоящие диктатуре и стремящиеся к переговорам, часто ставят благородные цели. Если вооруженные столкновения с жестоким режимом продолжаются годами и ничего не приносят, люди любой политической ориентации, естественно, захотят мира. Поборники свободы особенно ратуют за переговоры, когда диктаторы имеют явное военное превосходство, а жертвы и разрушения становятся чрезмерными. Появляется сильный соблазн использовать любую возможность, которая помогла бы достичь хотя бы некоторых целей и положить при этом конец насилию, непрестанно порождающему зло.
Конечно, «мирные» предложения диктатора не особенно искренни. Он может когда угодно остановить борьбу против собственного народа. Он волен без всякой торговли восстановить уважение к достоинству и правам человека, освободить политических заключенных, прекратить пытки, остановить карательные операции, отказаться от власти и даже попросить у народа прощения.
Когда диктатура сильна, но сопротивление ей существует, диктаторы могут заставить его капитулировать под предлогом «примирения». Призыв к переговорам привлекает, но в зале, за столом, демократов ждут серьезные опасности.
Если же оппозиция очень сильна и диктатура находится под угрозой, диктаторы могут предложить переговоры, чтобы сохранить за собой как можно больше власти или денег. И в первом, и во втором случае демократы не должны помогать диктаторам.
А вот ловушек, намеренно расставляемых диктаторами, остерегаться надо. Призывая к переговорам, затрагивающим политические свободы, диктаторы нередко хотят, чтобы демократы мирно сдали свои позиции. В таких конфликтах переговоры возможны только в конце решительной борьбы, когда власть диктаторов свергнута и они думают о том, как пробраться в международный аэропорт.
Если это суждение представляется слишком жестким, следует умерить романтический образ переговоров и понять, как они проводятся на самом деле.
«Переговоры» не значат, что две стороны сели за стол и на равных обсуждают, а там — и разрешают противоречия, которые привели к конфликту. Нужно помнить очень важный факт: обсуждаемое соглашение определяется не тем, на чьей стороне справедливость, а тем, какая сторона сильнее.
Тут надо учитывать несколько трудных вопросов. Что может сделать позднее каждая из сторон, если другая сторона не пойдет на соглашение? Что может сделать каждая из сторон, если другая сторона нарушит слово и станет добиваться своего вопреки соглашению?
Переговаривающиеся стороны не состязаются в справедливости, разрешая проблему. Хотя о ней могут немало говорить, реальные результаты возникают из оценки абсолютной и относительной силы сторон. Что могут сделать демократы, чтобы не сомневаться в том, что их минимальные требования будут приняты? Что могут сделать диктаторы, чтобы сохранить власть и обессилить демократов? Другими словами, если соглашение будет достигнуто, то в основном благодаря тому, что стороны сравнивают возможности друг друга и определяют, к чему может привести открытая борьба.
Надо уделить внимание и уступкам, на которые готова пойти каждая из сторон. В успешных переговорах неизбежен компромисс. Каждая сторона получает только часть того, чего добивается, а от другой части отказывается.
Что могут уступить диктаторам продемократические силы в ситуации жесточайшей диктатуры? С какими целями диктаторов могут они согласиться? Должны ли демократы оставить диктаторам (будь то политическая партия или военная клика) конституционно закрепленную роль в будущем правительстве? Не должны? Где же тогда демократия?
Даже предположив, что переговоры проходят успешно, стоит задаться вопросом: какой же мир наступит? Станет жизнь лучше или хуже, чем могла бы стать, если бы демократы начали или продолжали борьбу?
У диктаторов бывают разные мотивы и цели, на которых основывается их владычество, — власть, положение, богатство, преобразование общества и т. п. Нельзя забывать, что ни одной из этих целей они не достигнут, если лишатся своего положения. Значит, в случае переговоров они будут пытаться сохранить его за собой.
Какие бы обещания ни давали диктаторы, ни в коем случае нельзя забывать, что они пообещают что угодно, лишь бы обеспечить подчинение своих демократических оппонентов, а потом грубо нарушат соглашения.
Если демократы согласятся прекратить сопротивление в ответ на приостановку репрессий, их может ждать разочарование. Так бывает очень редко. Устранив противодействие внутренней и международной оппозиции, диктаторы только рады ужесточить режим. Спад народного сопротивления часто устраняет сдерживающую силу, ограничивавшую жестокость диктатуры, и тираны тогда могут делать все, что им угодно. Кришналал Шридхарани писал[5]:
«Тиран обладает властью ровно настолько, насколько нам не хватает силы противиться ей».
Если ставкой оказались самые фундаментальные ценности, изменить что-то может только сопротивление. Чтобы лишить диктаторов власти, оно почти всегда должно продолжаться. Успех в большинстве случаев определяется не переговорами, а разумным использованием самых подходящих и мощных средств сопротивления. На наш взгляд, самое мощное средство, доступное для тех, кто сражается за свободу, — политическое неповиновение, или ненасильственная борьба, о котором мы будем говорить подробно.
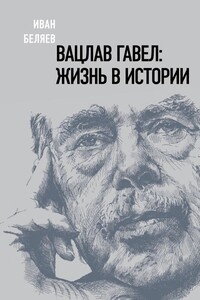
Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
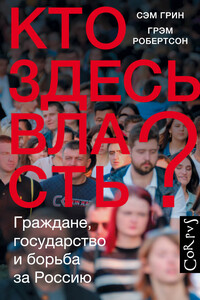
На чем базируется власть Путина – один из самых обсуждаемых вопросов последних двух десятилетий среди политологов, социологов, экономистов и журналистов. Книга политологов Сэма Грина и Грэма Робертсона – это попытка найти на него ответ не в теоретической плоскости, а в практической. Десятки интервью с обычными россиянами, изучение результатов соцопросов, наблюдение за различными группами в социальных сетях и анализ данных о составе и активности протестных групп – все эти методы не только помогли авторам понять, кто в действительности является сторонником Путина, но и сделать парадоксальный вывод: эта поддержка не так надежна, как принято считать, и в любой момент она может закончиться. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
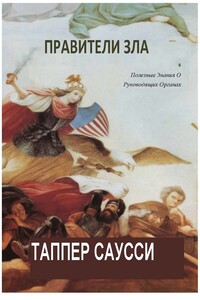
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
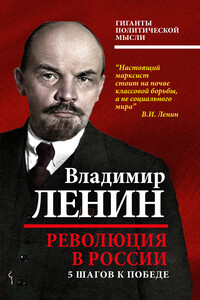
Победа большевистской революции в октябре 1917 года сейчас объясняется по-разному: кто-то говорит о «мировом заговоре» против России, кто-то – о «немецких деньгах», кто-то – о коварстве большевиков во главе с Лениным. Читателю предоставляется возможность составить собственное мнение о том, что произошло тогда: в книге приводятся работы В.И. Ленина, посвященные причинам и ходу русской революции. Здесь есть как статьи, предназначенные Лениным для публикации в массовых изданиях, так и для «внутреннего пользования» большевистской партии – они показывают, как шли большевики к своей победе в России.
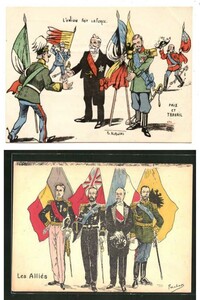
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
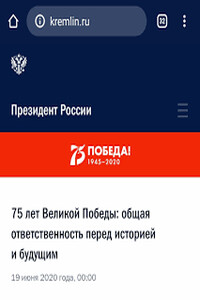
Опубликована статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».
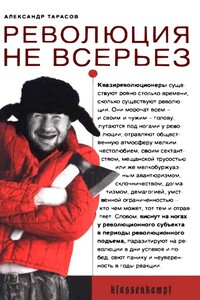
Революции — вид социальной медицины. Они лечат общество от застарелых недугов. И точно так же, как и в деле врачевания, в деле революции не обходится без шарлатанов, в том числе и таких, которые не только морочат головы окружающим, но и сами искренне уверены, что опасны для старого мира и могут создать новый. Это квазиреволюционеры. Кто они, почему они существуют и как их отличить от революционеров настоящих, рассказывает в книге «Революция не всерьез» содиректор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс» Александр Тарасов.
