Остракизм в Афинах - [3]
Налицо, таким образом, новый уход в крайность, смена одной односторонности на другую. И это, наряду с несомненными позитивными результатами (оказались фундаментально изученными те стороны афинской политической жизни, которые ранее пребывали в некоторой тени), опять же чревато своими издержками. Достаточно сказать, что из исследователей афинской истории во второй половине XX в. лишь очень немногие (такие как В. Эренберг или упоминавшийся Родс) активно и эффективно занимались как институциональными, так и неинституциональными аспектами политической проблематики. Досадно, когда конкретная специализация антиковеда, и без того в силу неизбежности достаточно узкая, еще более суживается, и исследователь, хорошо разбирающийся, скажем, в перипетиях борьбы группировок, начинает чувствовать себя значительно менее уверенно, коль скоро речь заходит о нюансах функционирования той политической системы, той конституции (употребляя этот термин, естественно, в широком значении), в рамках которой эта борьба происходила.
Сложившееся подобным образом положение дел не могло, в свою очередь, не вызвать обратной реакции. И эта реакция последовала, в первую очередь, со стороны такого авторитетного ученого, как М. Хансен. В специальной статье «О значении институтов для анализа афинской демократии»[6] он справедливо указал на огромную роль политических институтов, особенно органов государственной власти, в демократическом афинском полисе. В отличие от современных представительных демократий, прямая демократия античной эпохи способствовала тому, что подавляющее большинство граждан регулярно (а не от случая к случаю) участвовало в работе этих институтов. В условиях отсутствия или, во всяком случае, весьма слабого развития неинституциональных, не связанных с государством форм общественной жизни последняя была предельно институционализована. Никогда в истории европейских национальных государств, подчеркивает Хансен, политические институты не значили так много, как в греческом полисе. В частности, изучая политическую элиту демократических Афин, ни в коем случае не следует забывать о том, что эта элита осуществляла свою власть не путем каких-то закулисных манипуляций, как это столь часто бывает в наши дни, когда видимость волеизъявления народа сплошь и рядом оказывается лишь ширмой для решений, принятых на совсем ином, «незримом» уровне, а именно (и только) посредством существующих конституционных институтов. Отсюда, кстати, то колоссальное значение, которое придавалось в общественной жизни ораторскому искусству, риторике. Одним из важнейших талантов, требовавшихся от политического деятеля, было красноречие, умение убедить укомплектованные демосом государственные органы[7]. Датский антиковед подчеркивает, что возрождение интереса к политическим институтам афинской демократии абсолютно необходимо для лучшего понимания сущности этого исторического феномена. Приведя процитированные выше красивые метафоры («политическая морфология» и «политический синтаксис»), он делает остроумное замечание: для греческого языка (в отличие, например, от английского) характерны относительно простой синтаксис и сложная морфология.
Нельзя сказать, чтобы призывы Хансена остались совсем уж «гласом вопиющего в пустыне»[8]. Как до выхода его вышеуказанной статьи, так и после него в западной историографии конца XX века периодически появлялись интересные исследования, посвященные различным институтам афинской демократии. Можно отметить, например, монографии об Ареопаге[9], книги об институтах триттий и демов[10], работы о магистратурах[11], в том числе о коллегии стратегов[12], фундаментальный труд об афинской судебной системе, написанный А. Беджхолдом при участии ряда других авторов[13] и др. Не говорим уже о заслугах самого Хансена: он с такой степенью детальности, как вряд ли кто-либо до него, изучил такой демократический институт, как афинская экклесия, посвятил ряд чрезвычайно принципиальных монографий и статей истории дикастериев в Афинах. Однако, насколько нам представляется, всего этого пока еще явно недостаточно; приоритетным по-прежнему продолжает являться «неинституциональное» направление, хотя, пожалуй, оно все ближе подходит к самоисчерпанию. Полностью солидаризируясь в этом отношении с М. Хансеном, мы абсолютно убеждены, что возвращение к активному исследованию институциональной стороны демократического афинского полиса — насущная задача, стоящая ныне перед антиковедами. Сразу подчеркнем, что речь не идет о каком-то шаге назад, в прошлое. Напротив, теперь изучение институтов должно осуществляться уже на новом уровне, с учетом всех результатов, достигнутых представителями противоположного подхода. Особенно важно то, что теперь уже, наверное, всем понятно: полисные институты должны анализироваться не изолированно, а в контексте всей политической жизни в том или ином греческом государстве (в данном случае в Афинах), в контексте, берущемся максимально полно и всеобъемлюще. Иными словами, следует говорить о некоем синтезе «институционального» и «неинституционального» подходов, о синтезе, который может вывести антиковедение на новый научный уровень.
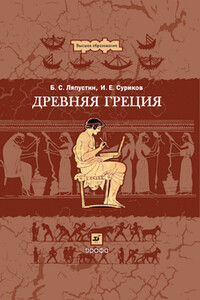
В учебном пособии представлен материал по истории Древней Греции, изучаемой студентами исторических специальностей вузов в курсе «История Древнего мира».Цивилизационный подход к освещению развития древнегреческого мира позволяет по-новому рассказать о многих исторических феноменах, о различных сторонах жизни древнегреческого общества.Изложение материала и датировка событий опираются на новейшие научные разработки. В каждой главе приведены основные источниковедческие и историографические сведения, указана литература по теме.
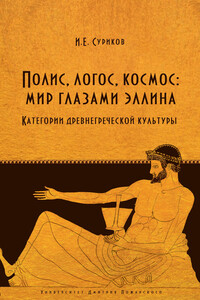
Вклад древних греков в мировую и особенно европейскую историю колоссален. Античная греческая цивилизация – в полном смысле слова фундамент всей последующей жизни Европы. Без преувеличения можно сказать, что ни один другой народ не обогатил культурную сокровищницу человечества таким количеством шедевров и плодотворных идей. Успехи эллинов во всех областях культурного творчества были феноменальными, неповторимыми.Книга о древнегреческой культуре, о народе, создавшем эту культуру, об особенностях его мировосприятия, сознания, системы ценностей, о его «картине мира» – это книга о важном, основополагающем, фактически о наших корнях.
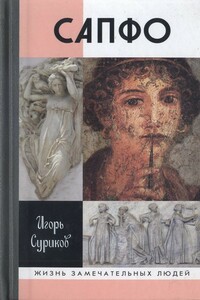
Сапфо — фигура, известная, наверное, всем. Она — первая не только в Древней Греции, но и во всей истории человечества женщина-поэтесса, автор многих замечательных лирических стихотворений, вошедших в золотой фонд мировой литературы. О жизни Сапфо известно немного, но даже из этих скудных сведений видно, что она была, помимо прочего, неординарной, талантливой личностью. Самой Сапфо, ее творчеству, ее эпохе посвящена эта книга, в которой — в связи с судьбой героини — подробно говорится и о положении женщин в античном греческом мире в целом.знак информационной продукции 16+.
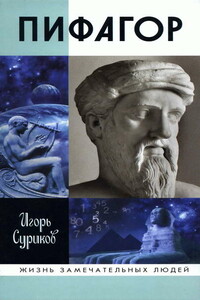
Имя древнегреческого ученого Пифагора известно каждому еще со школьной скамьи. Но доказательство знаменитой теоремы о квадрате гипотенузы и сумме квадратов катетов — лишь малое из того многого, что дал миру этот удивительный человек. Мыслитель и философ (между прочим, первым введший в оборот слова «философ» и «философия»), религиозный деятель, разработавший учение о «метемпсихозе» — переселении душ, мистик и пророк, которого ученики всерьез воспринимали как бога или полубога, он был одним из крупнейших деятелей греческой «интеллектуальной революции».
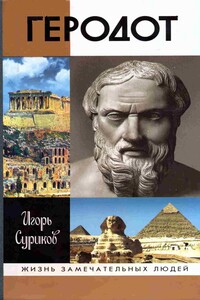
Геродота уже в древности называли «Отцом истории» — и «отцом лжи». Он был знаком с политиком Периклом, драматургом Софоклом, скульптором Фидием, философом Протагором. Грек, являвшийся подданным Персидской державы, участник заговора против тирании, политэмигрант, один из основателей колонии, Геродот десятки лет неутомимо путешествовал, собирая сведения для своей «Истории». Он побывал в различных уголках известного тогда мира, от Египта и Вавилона до Италии и северного побережья Черного моря, и первым изобразил исторический процесс как вековой конфликт Востока и Запада.Книга доктора исторических наук Игоря Сурикова — о великом античном историке, его труде и его времени.
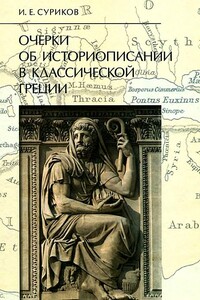
Монография представляет собой результат исследований в области древнегреческой историографии, проводившихся автором на протяжении ряда лет. Книга состоит из двух частей. В главах первой части анализируются общие особенности исторической памяти и исторического сознания в античной Греции. Освещаются следующие сюжеты: соотношение исследования и хроники в историографии, аспекты зарождения исторической мысли, место мифа в конструировании прошлого, циклистские и линейные представления об историческом процессе, взаимовлияние историописания и драматургии, локальные традиции историописания в античном греческом мире, элементы иррационального в произведениях классических греческих историков и др. Вторая часть посвящена различным проблемам творчества «отца истории» Геродота.

Наполеон III — это имя для подавляющего большинства ассоциируется с прозвищем «Наполеон Малый» и воспринимается как пародийная копия своего дяди — императора Наполеона I. Так ли это? Современная Италия и Румыния, туристическая Мекка — Париж, инженерное чудо — Суэцкий канал, межокеанские судоходные линии, манящие огни роскошных торговых центров, основы социального законодательства и многое другое — наследие эпохи правления Наполеона III. История часто несправедлива. По отношению к первому президенту Французской республики и последнему императору французов эта истина проявилась в полной мере. Данная книга — первая на русском языке подробная биография одной из самых интересных и влиятельных личностей мировой истории, деятельность которой несколько десятилетий определяла жизнь народов Европы и мира. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В монографии рассматриваются произведения французских хронистов XIV в., в творчестве которых отразились взгляды различных социальных группировок. Автор исследует три основных направления во французской историографии XIV в., определяемых интересами дворянства, городского патрициата и крестьянско-плебейских масс. Исследование основано на хрониках, а также на обширном документальном материале, произведениях поэзии и т. д. В книгу включены многочисленные отрывки из наиболее крупных французских хроник.

Подписание в Большом Трианонском дворце в пригороде Парижа в 1920 г. мирного договора между державами-победительницами в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией стало одним из самых трагических событий в венгерской истории ХХ в., оставивших след в массовом сознании и политической культуре. Книга адресована всем, кто хочет пойти дальше реконструкции внешней канвы событий, кто ищет глубинные объяснения неочевидным связям дня сегодняшнего с минувшим, кто не берет на веру «горячие» новости, газетные спекуляции, легенды и домыслы. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
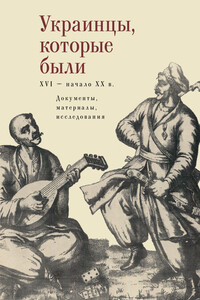
Представленный сборник письменных источников и литературы по истории Украины и украинцев позволяет читателю ознакомиться с основными документами, материалами и научными работами XVI – начала ХХ века, касающимися проблемы развития географической, этнической и политической идентификации и самоидентификации украинского народа. Книга адресована не только специалистам, но и всем интересующимся историей русского (восточнославянского) этноса.

Известный историк науки из университета Индианы Мари Боас Холл в своем исследовании дает общий обзор научной мысли с середины XV до середины XVII века. Этот период – особенная стадия в истории науки, время кардинальных и удивительно последовательных перемен. Речь в книге пойдет об астрономической революции Коперника, анатомических работах Везалия и его современников, о развитии химической медицины и деятельности врача и алхимика Парацельса. Стремление понять происходящее в природе в дальнейшем вылилось в изучение Гарвеем кровеносной системы человека, в разнообразные исследования Кеплера, блестящие открытия Галилея и многие другие идеи эпохи Ренессанса, ставшие величайшими научно-техническими и интеллектуальными достижениями и отметившими начало новой эры научной мысли, что отражено и в академическом справочном аппарате издания.
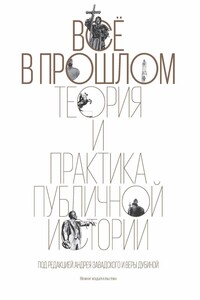
Прошлое, как известно, изучают историки. А тем, какую роль прошлое играет в настоящем, занимается публичная история – молодая научная дисциплина, бурно развивающаяся в последние несколько десятилетий. Из чего складываются наши представления о прошлом, как на них влияют современное искусство и массовая культура, что делают с прошлым государственные праздники и популярные сериалы, как оно представлено в литературе и компьютерных играх – публичная история ищет ответы на эти вопросы, чтобы лучше понимать, как устроен наш мир и мы сами. «Всё в прошлом» – первая коллективная монография по публичной истории на русском языке.