Осторожно, треножник! - [12]
Сильнее элемент жесткой манипуляции представлен в мнимом самоубийстве Лопухова, которое причиняет Вере Павловне настоящую боль, вызвав у нее (правда ненадолго, лишь до прихода Рахметова) тяжелое чувство вины. Таким образом, ложным оказывается не только сам факт самоубийства, но и то великодушие, с которым оно якобы совершается.
Еще бесцеремоннее манипулирование, учиняемое Кирсановым по отношению к его коллегам-врачам, Полозовой и ее отцу.
Кирсанов ничтоже сумняшеся рискует здоровьем и жизнью Полозовой – будучи врачом, он предлагает дать своей практически здоровой пациентке яд.
Когда, как водится у Чернышевского, все кончается хорошо и ее отца оповещают о примененной уловке, «Полозову… отчасти страшновато слышать, как отвечает Кирсанов на его первый вопрос: – Неужели вы в самом деле дали бы ей смертельный прием? – Еще бы! Разумеется, – совершенно холодно отвечал Кирсанов… – И у вас достало бы духа?.. Вы страшный человек!.. – Это значит, что вы еще не видывали страшных людей, – с снисходительной улыбкой отвечал Кирсанов, думая про себя: – Показать бы тебе Рахметова». [15]
Во время разговора с Кирсановым Полозову «рисовалась… другая картина… берейтор Захарченко сидит на Громобое… и Громобой хорошо вытанцовывает под Захарченкой, только губы у Громобоя сильно порваны, в кровь». [16]
Между прочим, жестокости Рахметова, образующие таким образом вершину революционного активизма в ЧД, повествователем никак не конкретизируются – дискурсивный жест, призванный одновременно усыпить бдительность цензора и в то же время многозначительно пощекотать нервы понимающему читателю.
Возвращаясь к Кирсанову, заметим, что его сценарная и режиссерская работа напоминает жутковатые постановки Петеньки Верховенского, весьма вероятно, разработанные Достоевским в ответ на ЧД. Правда, есть существенное различие – игры Верховенского кончаются трупами, но и Чернышевский обнаруживает нездоровое пристрастие к тому, что можно назвать argumentum ad mortem. Более того, как притворное самоубийство Лопухова, так и блеф с отравлением Полозовой имеют своим общим жизненным прототипом историю женитьбы самого Чернышевского.
Как известно, Н. Г. проигрывал идею самоубийства – про себя, да и вслух, намекая на это своим родителям, – на случай если бы они, в особенности мать, попытались помешать бракосочетанию. Все, разумеется, сошло благополучно, с одним нюансом в стиле Достоевского (или даже Сомерсета Моэма, см. его рассказ «Луиза»): мать и бабушка Н. Г. умерли за несколько дней до свадьбы, которая, тем не менее, состоялась в назначенный день.
Легкость, с которой Чернышевский обращался со смертью в своих литературных и житейских сюжетах, соответствует его прохладному темпераменту и неясному различению фантазий и реальности. Как его готовность к самоубийству, так и его социальное прожектерство (основанное иной раз на вооруженном шантаже) выдают глубокую недооценку уникальности человеческой жизни – естественное следствие мышления в чисто бутафорских категориях, подменяющих полнокровную жизнь сюжетным реквизитом. Если человеческая личность, да и сама жизнь, легко поддаются конструированию, переделке, операциям взаимозамены и т. п., то с той же легкостью они допускают и принесение в жертву.
Высокомерное пренебрежение к «другим» (о нем речь еще впереди) не является у Чернышевского просто побочным компонентом литературного мотива манипулирования. Убеждение, что некоторые люди более равны, составляет краеугольный камень всякой конспираторской этики, которая позволяет небольшой группе лиц, не представляющих никого, кроме самих себя (ср. оруэлловскую Внутреннюю Партию), присвоить себе право решать за всех остальных.
Позднее, уже в Сибири, Чернышевский написал пьесу, которой дал красноречивое название «Другим нельзя». В пьесе разрабатывалась ситуация гармоничного брака втроем (двух мужчин и одной хорошей женщины, любящей обоих). Оговорка относительно «других» могла быть уступкой цензуре и принятой морали, но, вообще говоря, добрые намерения в сочетании с установкой на конспирацию и с эзоповской ментальностью образуют как раз ту горючую смесь, из которой возгорается пламя авторитаризма. Представление, будто хорошим людям (при, по выражению монтера Мечникова, взаимном непротивлении сторон) нет нужды подчиняться «условностям закона», неизбежно приводит к новым, более жестким законам и условностям – процесс, проанализированный такими мыслителями, как Оруэлл и Дойчер.
Элитарность, скрытая за эгалитарным фасадом «рассказов о новых людях», просматривается – пророчески! – и в правилах распределения жилплощади (одном из главных камней преткновения, обнаружившихся в ходе построения социалистических утопий ХХ века, каламбурно овеществивших второе значение слова утопия, «не-место, место которого нет». Важнейшим пунктом освободительной программы ЧД было обязательное разделение квартиры «новой семьи» на его комнату, ее комнату и комнату, общую для обоих. Этим гарантировалась территориальная неприкосновенность (privacy) каждого из супругов и, как не устает подчеркивать повествователь ЧД, в первую очередь жены. Требуется внимательное чтение «мелкого шрифта» романа, чтобы понять, как на самом деле в нем обстоит дело с жилплощадью и женской privacy.
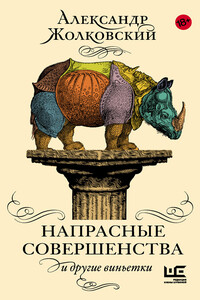
Знаменитый российско-американский филолог Александр Жолковский в книге “Напрасные совершенства” разбирает свою жизнь – с помощью тех же приемов, которые раньше применял к анализу чужих сочинений. Та же беспощадная доброта, самолюбование и самоедство, блеск и риск. Борис Пастернак, Эрнест Хемингуэй, Дмитрий Шостакович, Лев Гумилев, Александр Кушнер, Сергей Гандлевский, Михаил Гаспаров, Юрий Щеглов и многие другие – собеседники автора и герои его воспоминаний, восторженных, циничных и всегда безупречно изложенных.

Книга невымышленной прозы известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из множества мемуарных мини-новелл (и нескольких эссе) об эпизодах, относящихся к разным полосам его жизни, — о детстве в эвакуации, школьных годах и учебе в МГУ на заре оттепели, о семиотическом и диссидентском энтузиазме 60-х−70-х годов, об эмигрантском опыте 80-х и постсоветских контактах последних полутора десятилетий. Не щадя себя и других, автор с юмором, иногда едким, рассказывает о великих современниках, видных коллегах и рядовых знакомых, о красноречивых мелочах частной, профессиональной и общественной жизни и о врезавшихся в память словесных перлах.Книга, в изящной и непринужденной форме набрасывающая портрет уходящей эпохи, обращена к широкому кругу образованных читателей с гуманитарными интересами.

Книга прозы «НРЗБ» известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из вымышленных рассказов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
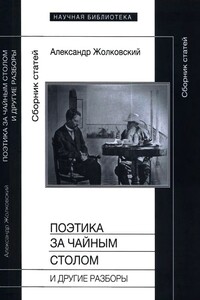
Книга представляет собой сборник работ известного российско-американского филолога Александра Жолковского — в основном новейших, с добавлением некоторых давно не перепечатывавшихся. Четыре десятка статей разбиты на пять разделов, посвященных стихам Пастернака; русской поэзии XIX–XX веков (Пушкин, Прутков, Ходасевич, Хармс, Ахматова, Кушнер, Бородицкая); русской и отчасти зарубежной прозе (Достоевский, Толстой, Стендаль, Мопассан, Готорн, Э. По, С. Цвейг, Зощенко, Евг. Гинзбург, Искандер, Аксенов); характерным литературным топосам (мотиву сна в дистопических романах, мотиву каталогов — от Гомера и Библии до советской и постсоветской поэзии и прозы, мотиву тщетности усилий и ряду других); разного рода малым формам (предсмертным словам Чехова, современным анекдотам, рекламному постеру, архитектурному дизайну)

Книга невымышленной прозы известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, родившегося в 1937 году в Москве, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из полутора сотен мемуарных мини-новелл о встречах с замечательными в том или ином отношении людьми и явлениями культуры. Сочетание отстраненно-иронического взгляда на пережитое с добросовестным отчетом о собственном в нем участии и обостренным вниманием к словесной стороне событий делают эту книгу уникальным явлением современной интеллектуальной прозы.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».