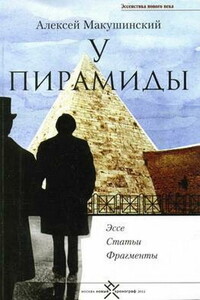Остановленный мир - [24]
Ложи и декорации
И, значит, со времени моих первых дзенских увлечений, со времени Васьки-буддиста, Димы-фотографа должно было пройти – сколько? – четырнадцать или пятнадцать лет (так легко сжимаемых теперь в одно предложение, таких долгих в действительности), и я должен был закончить отнявший у меня девять лет жизни роман (в Эйхштетте, еще раз, в 1994 году), и переехать (в 1996 году) в Регенсбург, и (к 1998 или 1999 году) окончательно отчаяться написать следующий, отчаяться написать вообще что-нибудь, отчаяться вообще во всем – и в писательстве и в жизни, чтобы для самого себя неожиданно, в Вене, куда приехал я просто так, с этого же отчаяния, от отчаяния убегая, в марте 1999 года (как раз в те дни, когда началась бомбардировка Белграда…), в ужасной дешевой гостинице, которую порекомендовал мне кто-то из бережливых немецких приятелей, чтобы вдруг сказать себе, что я пойду по дзенскому пути, будь что будет, всерьез и в самом деле, потому что никакого другого пути не вижу я для себя. Все декорации жизни давно поменялись, другие зрители сидели в глубине других лож, как будто и не было никогда того трамвая, того струения дождя по стеклам, тех девушек, тех коммуналок, того Ген-наадия, обсосанного Соссюра, как будто снился мне некий сон, перестал сниться, выпал из памяти, и я сам, уже почти сорокалетний, с отчаяния, от отчаяния и без всякой цели приехавший в Вену, был какой-то другой я, с другим составом крови и плоти, с другим, уже слоистым, ступенчатым, переборчатым прошлым, с другим, еще и по-прежнему необозримым, но уже начавшим сужаться, сжиматься будущим, с такими потерями в этом прошлом и такими потерями в будущем, уже осязаемом, о которых пятнадцатью годами ранее никто и не думал… другой – и тот же самый я, разумеется, с теми же темами жизни, тем же набором нерешенностей, теми же проблесками пробуждения и теми же провалами в обыденное безмыслие.
Улица Инвалидов
Вена в мой первый туда приезд показалась мне городом вполне отвратительным, подложно-парадным – одним из самых пошлых городов Европы, – городом, который делает вид, что все хорошо, все в порядке и всегда, и раньше было только хорошее, сплошные балы и вальсы, прыжки и ужимки, кавалеры в кружевах и дамы в кабриолетах, ничего другого и не было, ничего не случилось. Война? Не слыхали. Нацизм? Так это ж немцы во всем виноваты, это они нас попутали, наша с краю альпийская хижина, мы такие милые, мы ни при чем. Целую ручки, и до скорой встречи, сударыня. А евреев мы так любим, так любим. То есть мы их ненавидим по-прежнему, но не скажем этого никому, никогда… А я ненавижу эту вашу похабную позолоту, эти ваши казарменные дворцы, эти ваши имперские площади, фатально, как бы вы ни выделывались, напоминающие о плаце, муштре и шпицрутене, о том, что первая колонна marschiert и вторая колонна marschiert, но ни вторая, ни первая не придут никуда, заблудятся в лесу, увязнут в болоте – и поделом, и так им и надо, и любое болото отрадней мне торжественного убожества вашего… Я был, наверно, не прав; просто так несчастен был в эти мартовские дни в этом городе, как редко где и когда бывал в жизни. Знакомых в Вене у меня не было, идти было некуда, туристические места на третий день опостылели. Оставалось только уехать, но почему-то не уезжал я; упорно, словно в надежде на встречу с кем-нибудь, с чем-нибудь, бродил по отвратительным мне проспектам, бульварам, переулкам и улицам с чудовищными названиями вроде Landesgerichtsstraße, Getreidemarkt или Kettenbrückengasse, и только, может быть, в Бельведере, в его поднимающемся на гору парке находил недолгий покой, но потом опять тащился по какой-нибудь бесконечной Invalidenstraße, сам делаясь инвалидом, с трудом и му́кой волоча пудовые ноги, но все же из вечера в вечер возвращаясь – зачем? – в свою мрачную, затрапезную, заброшенную гостиницу, содержавшуюся двумя поляками – одним маленьким поляком и его, похоже, братом или кузеном, иногда замещавшим его за стойкой в прихожей, у основания мрачной лестницы с протертой ковровой дорожкою и очень пыльной, очень, как и я сам, несчастной пальмочкою в пролете (гостиницу, к которой под конец моего пребывания я почувствовал даже что-то вроде симпатии – островок славянской правды в море австрийского ханжества), в этот крошечный прокуренный номер (в Европе еще курили тогда в гостиницах), главное достоинство которого заключалось в том, что, сидя на стуле, деревянном, выгнутом и скрипучем, можно было дотянуться рукою до любого предмета и любого угла, до телевизора, подвешенного под потолком, или до тумбочки, или до затхлого шкафа, так что никакого и смысла не было подниматься с этого стула, разве что ради того, чтобы лечь на в меру продавленную кровать, бессонными ночами, в отличие от вейль-на-рейнской, не одарившую постояльца, одарившую его мрачнейшими вечерами, бессмысленным глядением в потолок. В последний и самый ужасный из этих венских весенних дней, неистово-солнечный и злобно-голубоглазый, когда я поехал зачем-то в Шёнбрунн, эту жалкую в своей примитивной гигантомании пародию на Версаль, и возвратился оттуда в окончательном отчаянии, вдобавок и с мигренью до тех пор не испытанной силы – просто шило (и даже, скорее, штопор) воткнули мне в голову в вершке от виска, воткнули и вворачивали все глубже, – на помянутой кровати лежучи, в помянутый потолок глядючи, для себя самого неожиданно принял я решение пойти по дзенскому, действительно – потому что никакого другого не видел и не мог придумать, – пути; приняв его, пересел на стул – больше пересесть было некуда, – сложил руки в дзенскую мудру, какой она мне помнилась по уже к тому времени прочитанным книгам, принялся считать свои выдохи. Все наши, если не лучшие, то важнейшие наши решения вырастают, я знаю теперь, из отчаяния. Мигрень не прошла, да и на душе не то чтобы полегчало. Не полегчало, но прояснилось. По крайней мере, удалось мне, наконец, отстраниться от моего же отчаяния, откуда-то сверху и сбоку посмотреть на него (как в свое время на речку-вонючку с ее облачками стирального порошка и облаками небесными…), сбоку и сверху – на мои бессмысленные прогулки по чудовищно имперским площадям и отвратительно парадным проспектам, на эту внезапную ненависть к ничем, наверное, не заслужившей ее Вене, на всю мою зашедшую в тупик жизнь, эти последние мучительные годы, эту выжженную пустыню – посмотреть на них сверху, сбоку или, наоборот, с какой-то вдруг обретенной внутренней точки, неподвижной посреди шатания и шума во мне, с этого деревянного, выгнутого, но твердо стоявшего на полу, скрипучего, а все же уверенного в себе стула, на котором сидел я, считая выдохи, и с которого можно было дотянуться до любого предмета в комнате – до стола, и лампы, и телевизора. Включать телевизор мне и в голову не приходило, но что-то переключилось у меня в голове; решение было принято; как только оно было принято, я мог уже и уехать; назавтра без всяких приключений докатился до Регенсбурга; и потом все закрутилось, понеслось очень быстро; очень быстро обнаружилась в том же Регенсбурге дзен-буддистская группа, собиравшаяся в каком-то протестантском учреждении, затем другая, дзенско-католическая, затем просто дзенская, в Мюнхене; и я раздобыл (теперь не помню, где именно) японскую черную круглую подушку для медитаций (набитую особенной белой ватой – капоком), подушку, которая с тех пор мне верно служит (иногда приходится добавлять в нее немного этого белого капока через боковой тайный разрез); и на этой подушке

«Пароход в Аргентину» – третий роман автора. Его действие охватывает весь 20 век и разворачивается на пространстве от Прибалтики до Аргентины. В фокусе романного повествования – история поисков. Это «роман в романе». Его герой – альтер эго автора пытается реконструировать судьбу Александра Воско, великого европейского архитектора, чья история – это как бы альтернативная, «счастливая» судьба русского человека ХХ века, среди несчастий и катастроф эпохи выполнившего свое предназначение. Это редкий случай подлинно европейского интеллектуального романа на русском языке.
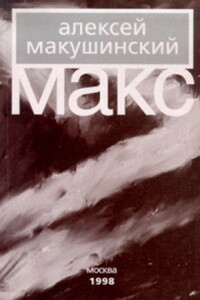
Роман, предлагаемый вниманию читателя, писался с 1985 по 1994 год и был опубликован в 1998 году в издательстве «Мартис» в Москве.Соблазн написать к нему теперь, через десять лет, предисловие довольно велик. За десять лет многое изменилось и прежде всего сам автор.Тем не менее я от этого соблазна воздерживаюсь. Текст должен говорить сам за себя, комментарии к нему излишни.
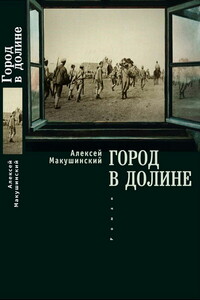
Новая книга Алексея Макушинского — роман об Истории, и прежде всего об истории двадцатого века. Судьбы наших современников отражаются в судьбах времен революции и гражданской войны, исторические катастрофы находят параллели в поломанных жизнях, трагедиях и поражениях отдельных людей. Многочисленные аллюзии, экскурсы и отступления создают стереоскопическое видение закончившейся — или еще не закончившейся? — эпохи.

В книгу живущего в Германии поэта и прозаика Алексея Макушинского вошли стихи, в основном написанные в последние годы и частично опубликованные в журналах «Арион», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Звезда», «Крещатик».Приверженность классическим русским и европейским традициям сочетается в его стихах с поисками новых путей и неожиданных решений.

Перед нами – философическая прогулка Алексея Макушинского по местам, где жили главные «герои» книги – Николай Бердяев и французский теолог Жак Маритен. Гуляя, автор проваливается в прошлое, вспоминает и цитирует поэтов, философов и художников (среди них: Лев Шестов и его ученики, Роден и Рильке, Шарль Пеги, Марина Цветаева, Альбер Камю), то и дело выныривая обратно в современность и с талантом истинного романиста подмечая все вокруг – от красных штанов попутчика до фантиков на полу кафе. Читать такую прозу – труд, вознаграждаемый ощущением удивительной полноты мира, которая, как в гомеровские времена, еще способна передаваться с помощью слов.

Роман, написанный на немецком языке уроженкой Киева русскоязычной писательницей Катей Петровской, вызвал широкий резонанс и был многократно премирован, в частности, за то, что автор нашла способ описать неописуемые события прошлого века (в числе которых война, Холокост и Бабий Яр) как события семейной истории и любовно сплела все, что знала о своих предках, в завораживающую повествовательную ткань. Этот роман отсылает к способу письма В. Г. Зебальда, в прозе которого, по словам исследователя, «отраженный взгляд – ответный взгляд прошлого – пересоздает смотрящего» (М.

«А все так и сложилось — как нарочно, будто подстроил кто. И жена Арсению досталась такая, что только держись. Что называется — черт подсунул. Арсений про Васену Власьевну так и говорил: нечистый сосватал. Другой бы давно сбежал куда глаза глядят, а Арсений ничего, вроде бы даже приладился как-то».

В этой книге собраны небольшие лирические рассказы. «Ещё в раннем детстве, в деревенском моём детстве, я поняла, что можно разговаривать с деревьями, перекликаться с птицами, говорить с облаками. В самые тяжёлые минуты жизни уходила я к ним, к тому неживому, что было для меня самым живым. И теперь, когда душа моя выжжена, только к небу, деревьям и цветам могу обращаться я на равных — они поймут». Книга издана при поддержке Министерства культуры РФ и Московского союза литераторов.

Жестокая и смешная сказка с множеством натуралистичных сцен насилия. Читается за 20-30 минут. Прекрасно подойдет для странного летнего вечера. «Жук, что ел жуков» – это макросъемка мира, что скрыт от нас в траве и листве. Здесь зарождаются и гибнут народы, кипят войны и революции, а один человеческий день составляет целую эпоху. Вместе с Жуком и Клещом вы отправитесь в опасное путешествие с не менее опасными последствиями.

Первая часть из серии "Упадальщики". Большое сюрреалистическое приключение главной героини подано в гротескной форме, однако не лишено подлинного драматизма. История начинается с трагического периода, когда Ромуальде пришлось распрощаться с собственными иллюзиями. В это же время она потеряла единственного дорогого ей человека. «За каждым чудом может скрываться чья-то любовь», – говорил её отец. Познавшей чудо Ромуальде предстояло найти любовь. Содержит нецензурную брань.

20 июня на главной сцене Литературного фестиваля на Красной площади были объявлены семь лауреатов премии «Лицей». В книгу включены тексты победителей — прозаиков Катерины Кожевиной, Ислама Ханипаева, Екатерины Макаровой, Таши Соколовой и поэтов Ивана Купреянова, Михаила Бордуновского, Сорина Брута. Тексты произведений печатаются в авторской редакции. Используется нецензурная брань.