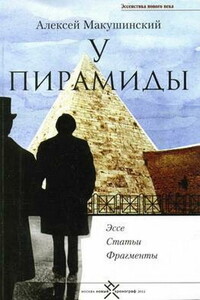Остановленный мир - [15]
Свобода – сейчас
А ведь если не стирать пыль с зеркала, то зеркало так и будет в пыли. Все же нам нравилось – и как нравилось! – только второе стихотворение, ответ Хуэй-нэня, призыв к мгновенной свободе, мгновенный переход и перевод разговора в другое измерение, в другую, парадоксальную плоскость. Никакого зеркала нет, и пыли нет, и тряпки нет, чтобы стирать ее, и стирать, значит, нечего, не с чего (незачем, некому, нечем…), я свободен, и ты свободен, и на хуэй советскую власть. Дзен и был для нас призывом к свободе; ничем другим, пожалуй, и не был… Еще, по-моему, и в голову не приходило нам, или только в голову приходило, но в душу не заходило к нам, что если пыли нет, зеркала нет, то и нас самих нет. Как же нет? Вот мы; вот мы сидим у Васьки-буддиста, в коммунальной комнате, под незримым взором взвихреннобрового Д.Т. Судзуки, попивая чай из каких-то случайных чашек, еще без намека на чайную церемонию, японскую или китайскую (чайные церемонии начнутся позже, вместе, кажется мне, с перестройкой), и я вновь, в который раз говорю Ваське, что парадоксы неразрешимы, что делать ничего нельзя и не делать тоже нельзя, стирать пыль нельзя, но нельзя и не стирать ее с зеркала. Можно стремиться к политической свободе, но невозможно, в сущности, стремиться к свободе внутренней. Стремление к свободе отрицает ее саму. Стремление к свободе превращает ее в некую цель. А свобода не есть цель. Свобода есть выход из того мира, в котором вообще могут быть какие-то цели. Свобода бесцельна. Свобода всегда – сейчас и всегда – уже. Уже есть, уже дана, уже здесь… Неужели вправду я говорил так Ваське-буддисту каким-нибудь желтым питерским днем, в восемьдесят, к примеру, третьем, в восемьдесят четвертом (орвелловском) году? Конечно, я говорил так, я думал об этом постоянно, прощаясь с Васькой и по дороге к нему, и на Васильевском острове, и на Английской набережной, и на площади у Исаакиевского собора. Мы выросли… мы тогда еще даже жили, хотя он клонился уже к концу, этот мир, но все-таки: мы жили и выросли в мире задач и целей, в мире, повернутом в будущее, в мире, где все всегда и с самого детства что-то должны были делать ради еще чего-то, чего еще не было, что было обещано, чего никогда не будет. Мы не верили никаким обещаниям; мы им с самого начала и с самого детского сада не верили; и это великое счастье наше, что мы не верили им с детского сада, что не пришлось нам и утрачивать веру, разочаровываться и пересматривать основы мировоззрения (как пришлось это делать столь многим, родившимся на пятнадцать или на двадцать лет раньше нас). Мир, однако, в котором мы жили и который нам так не нравился, оставался миром, обращенным и повернутым в будущее; мир, по привычке и старой памяти, предлагал нам волевое усилие как решение всех проблем, спасение от всех бед. Но мы и в это уже не верили; мы читали и слышали о даосском не-деянии, которое ничего не делает и ничего не оставляет несделанным; читали и Догена Дзендзи, основателя японского дзена и школы Сото (одной из двух важнейших школ дзен-буддизма), и если его самого еще не читали (взять было негде, да и понять его трудно), то читали о нем в наших книгах (у Судзуки еще раз и у Алана Воттса опять-таки), знали, следовательно, что впервые садящийся на подушку уже просветлен, что просветление не где-то там, в будущем, но что оно – вот, сейчас и здесь, здесь и сейчас, и что поэтому стремящийся к нему никогда его не достигнет. Но ведь и не говорит же Доген, что раз так, то и на подушку садиться не надо (совсем наоборот, как впоследствии выяснилось, в дзен-буддизме школы Сото сидят еще больше, дольше и упорнее, чем в другой школе, школе Риндзай). Ничего делать нельзя, но и ничего не делать нельзя, и значит, как-то нужно делать, не делая. Но как это – не делая, делать, – мы не знали, а потому ничего и не делали. Мы читали наши чудные дзенские книжки, учили, по крайней мере, Васька учил, в одном подвале японский, а в другом подвале китайский, рисовали, я тоже пробовал рисовать черной тушью иероглифы и круги, но на этом все и заканчивалось. Нам важен был только призыв к свободе – сейчас и здесь, вот здесь, вот сейчас, – но что свобода сама по себе может требовать усилий, что даром она не дается – эта простая мысль не то что не приходила нам в голову, но и в душу не заходила, и даже в головах не задерживалась. Ну в самом деле (еще и еще раз), если свобода требует усилий, значит, она снова превращается в цель, значит, она уже не сейчас и не здесь, значит, ее уже нет, вообще нет. Она должна даваться даром и возникать сама собою, без всяких усилий. Но даром она не давалась, сама собою не возникала или возникала, давалась лишь на внезапные, краткие, благословенные мгновения – на набережной, на сильном ветру, когда шел я к Ваське или от Васьки, в бесконечный, по-питерски, вечер, и невозможно-низкое, полярно-яркое солнце стояло и стояло над городом, и в стеклянном слепящем свете все искрилось, все полыхало; расплавленным оловом полыхала крутая пена перед моторной лодкой, маленькой и счастливой, потерявшейся в блестящей безмерности; полыхали дворцы; горели, пылали редкие лица прохожих, сметаемых ветром с моста; и хотя, уж кажется, большего нет несходства, чем между курляндской речкой-вонючкой и петербургской имперской рекою, почти так же, как на те порошковые облачка, те рукава русалочьих рубашек, пытавшихся уплыть по течению – но с еще более повелительным, несомненным и непреклонным ощущением силы, восторга, ярости и ясности настоящего, – смотрел я на все это ледяное, стальное, этот катер, этих обезумевших чаек и так же, не совпадая с ними, на собственные мысли, не-мысли, которых, впрочем, почти и не было во мне, у меня, как будто этот безудержный ветер просто вынес, вымел их из моей головы… Все же это чистое присутствие в настоящем (лейтмотив моей молодости) давалось мне хотя и вправду даром, но безотрадно редко, а в остальное время была, как всегда, как у всех, более или менее случайная жизнь с ее смутными мыслями и страстями, с ее не подвластными нам самим чувствами, ее нам вообще неподвластностью, ее к нам безразличием, ее печалью, ее тоской, ее редкими радостями, и той

«Пароход в Аргентину» – третий роман автора. Его действие охватывает весь 20 век и разворачивается на пространстве от Прибалтики до Аргентины. В фокусе романного повествования – история поисков. Это «роман в романе». Его герой – альтер эго автора пытается реконструировать судьбу Александра Воско, великого европейского архитектора, чья история – это как бы альтернативная, «счастливая» судьба русского человека ХХ века, среди несчастий и катастроф эпохи выполнившего свое предназначение. Это редкий случай подлинно европейского интеллектуального романа на русском языке.
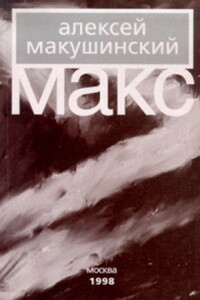
Роман, предлагаемый вниманию читателя, писался с 1985 по 1994 год и был опубликован в 1998 году в издательстве «Мартис» в Москве.Соблазн написать к нему теперь, через десять лет, предисловие довольно велик. За десять лет многое изменилось и прежде всего сам автор.Тем не менее я от этого соблазна воздерживаюсь. Текст должен говорить сам за себя, комментарии к нему излишни.

Перед нами – философическая прогулка Алексея Макушинского по местам, где жили главные «герои» книги – Николай Бердяев и французский теолог Жак Маритен. Гуляя, автор проваливается в прошлое, вспоминает и цитирует поэтов, философов и художников (среди них: Лев Шестов и его ученики, Роден и Рильке, Шарль Пеги, Марина Цветаева, Альбер Камю), то и дело выныривая обратно в современность и с талантом истинного романиста подмечая все вокруг – от красных штанов попутчика до фантиков на полу кафе. Читать такую прозу – труд, вознаграждаемый ощущением удивительной полноты мира, которая, как в гомеровские времена, еще способна передаваться с помощью слов.
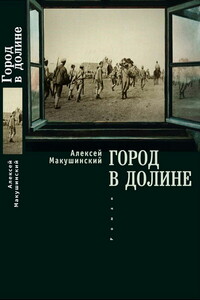
Новая книга Алексея Макушинского — роман об Истории, и прежде всего об истории двадцатого века. Судьбы наших современников отражаются в судьбах времен революции и гражданской войны, исторические катастрофы находят параллели в поломанных жизнях, трагедиях и поражениях отдельных людей. Многочисленные аллюзии, экскурсы и отступления создают стереоскопическое видение закончившейся — или еще не закончившейся? — эпохи.

В книгу живущего в Германии поэта и прозаика Алексея Макушинского вошли стихи, в основном написанные в последние годы и частично опубликованные в журналах «Арион», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Звезда», «Крещатик».Приверженность классическим русским и европейским традициям сочетается в его стихах с поисками новых путей и неожиданных решений.

«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.

Елена Чарник – поэт, эссеист. Родилась в Полтаве, окончила Харьковский государственный университет по специальности “русская филология”.Живет в Петербурге. Печаталась в журналах “Новый мир”, “Урал”.
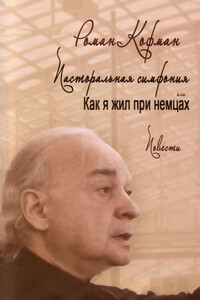
«Меня не покидает странное предчувствие. Кончиками нервов, кожей и еще чем-то неведомым я ощущаю приближение новой жизни. И даже не новой, а просто жизни — потому что все, что случилось до мгновений, когда я пишу эти строки, было иллюзией, миражом, этюдом, написанным невидимыми красками. А жизнь настоящая, во плоти и в достоинстве, вот-вот начнется......Это предчувствие поселилось во мне давно, и в ожидании новой жизни я спешил запечатлеть, как умею, все, что было. А может быть, и не было».Роман Кофман«Роман Кофман — действительно один из лучших в мире дирижеров-интерпретаторов»«Телеграф», ВеликобританияВ этой книге представлены две повести Романа Кофмана — поэта, писателя, дирижера, скрипача, композитора, режиссера и педагога.

Счастье – вещь ненадежная, преходящая. Жители шотландского городка и не стремятся к нему. Да и недосуг им замечать отсутствие счастья. Дел по горло. Уютно светятся в вечернем сумраке окна, вьется дымок из труб. Но загляните в эти окна, и увидите, что здешняя жизнь совсем не так благостна, как кажется со стороны. Своя доля печалей осеняет каждую старинную улочку и каждый дом. И каждого жителя. И в одном из этих домов, в кабинете абрикосового цвета, сидит Аня, консультант по вопросам семьи и брака. Будто священник, поджидающий прихожан в темноте исповедальни… И однажды приходят к ней Роза и Гарри, не способные жить друг без друга и опостылевшие друг дружке до смерти.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.